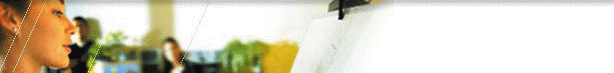

НОВЫЙ ЗАВЕТ: ПОИСКИ И
НАХОДКИ
Памяти Я. А. Ленцмана
Оглавление
Глава II У истоков Нового завета
Глава IV Синоптическая проблема и четвертое Евангелие
Глава V Деяния. Послания. Апокалипсис
Глава VI Проблема новозаветных персонажей
Нелегок путь исследователя, вступающего в запутанные лабиринты новозаветных проблем. Нелегок и путь следующего за ним читателя. Множество различных препон и опасностей подстерегает их.
Первое препятствие (сколь это ни кажется парадоксальным) — шаблоны литературы. Их нельзя обойти, но едва ли можно и сколько-нибудь исчерпывающе освоить. За два тысячелетия существования христианства различным аспектам его истории, его первоначальным произведениям, мировоззрению, социальным идеалам посвящены тысячи тысяч книг и статей на всех основных языках. Великое множество аналитических разборов, сопоставлений, гипотез и еще более бесчисленное множество лишенных такого подхода богословских апологетических сочинений переполняют библиотеки мира.
Казалось бы, эти сочинения не оставили вне своего поля зрения ни одного даже самого незначительного обстоятельства, имеющего отношение к истории происхождения христианства. И, тем не менее, каждое новое поколение исследователей с новой энергией и увлеченностью возвращается к этому предмету. Причину такого положения нетрудно увидеть в общих законах развития науки. Более глубокое понимание закономерностей исторического процесса, его методологии, значительные успехи в области методики изучения источника, наконец, новые археологические открытия — все это побуждало и поныне побуждает исследователей возвращаться к старым сюжетам и предпринимать новые и новые проверки прежних выводов и оценок. Перефразируя известную евангельскую притчу, можно сказать, что накапливаемые факты науки, как новое вино, теснят и рвут на каждом этапе старые мехи устоявшихся представлений. И их пересмотр время от времени оказывается закономерным и необходимым.
Опасности, которые здесь подстерегают исследователя и в особенности читателя, двоякого рода. Во-первых, за разнородной и часто противоречивой интерпретацией отдельных фактов, за бесчисленными комментариями иногда утрачивается ориентировка в самом материале. Другая опасность заключается в том, что в выборе между новыми взглядами и теми, на которых воспитывались целые поколения, порой в силу инерции отдают предпочтение более привычному. При таких обстоятельствах спасительной пристанью оказывается в первую очередь рассмотрение совокупности источников.
Еще одно затруднение, имеющее отношение, прежде всего к массовому читателю, связано с довольно прочно укоренившимися заблуждениями о природе некоторых литературных памятников христианства. Здесь, прежде всего, приходится говорить о Библии. Для большинства верующих это «священное писание». Мистический ореол, которым его окружило богословие, делает этот источник в глазах верующих не человеческим произведением, а творением самого божества. По утверждению современного православного автора, это — «слово божие», которое церковь хранит и передает из века в век в «целости и неповрежденности, в том виде, в каком оно дано ей богом», обеспечив эту сохранность надзором за исправным списыванием и позднее печатанием этих произведений[1]. Такие утверждения православного богослова грешат против истины не только привнесением элемента сверхъестественного в происхождение этих книг, но и в той части, где провозглашается их адекватность древнему оригиналу, их полное с ним совпадение. Целесообразно отметить, что в тех же кругах существует и иная, более трезвая оценка. «В настоящее время, — говорится в другом сочинении, — христианский мир не располагает, в оригинале ни одной из книг священной новозаветной письменности. Судя по некоторым данным, оригиналы этих писаний утрачены были в силу неизвестных нам обстоятельств уже во II веке, и христианские общины вынуждены были пользоваться списками или копиями с оригиналов. По мере распространения таких копий в рукописной традиции накапливались ошибки и отклонения от подлинников… Когда по истечении ряда столетий греческий текст Нового завета подвергся критическому рассмотрению, то в рукописной текстуальной традиции обнаружилось огромное количество разночтений»[2].
К сожалению, бесспорные факты наличия множества противоречий и разночтений в Библии недостаточно известны широкому кругу верующих. Те же из них, кому так или иначе приходилось об этом слышать, склонны отнести это к разряду выдумок атеизма. «Отрицательная критика и антирелигиозная литература, — пишет некий современный православный богослов, — весьма часто и назойливо выставляют мнимые противоречия и неточности в священном писании, чтобы подорвать веру в истинность сообщаемых там событий…»[3] И далее, на протяжении ста страниц своего сочинения он отвергает одно за другим все несообразности и противоречия, объявляя их мнимыми, несуществующими и лишь ввиду злокозненности «отрицательной критики» выставляемыми наружу.
Действительно ли научная критика злокозненна и методы ее облыжны?
В связи с этим уместно подчеркнуть, что древнегреческое слово «гэ критикэ» — «критика» не содержит в себе того одиозного оттенка, который ему часто обывательски приписывают. Критиковать в плане научном — не значит хулить, и когда исследователь, вчитываясь в древнюю рукопись, подвергает ее аналитическому разбору, он стремится отнюдь не опорочить ее, а, пользуясь определенными приемами и методами, глубже проникнуть в ее сущность.
Заглянем в лабораторию исследователя, изучающего древнее литературное или историческое произведение. Здесь нет ни колб, ни весов, ни сложных физических агрегатов, хотя в последнее время и методы новейшей физики все более настойчиво стучатся в эти двери. Одним из существенных инструментов историка является сравнительный анализ. Это — ось исследования, вокруг которой группируются и другие приемы, но без которой немыслимо сколько-нибудь обоснованное суждение. Собственно, распознание неизвестного через сличение с другим, уже изученным, является всеобщим приемом науки. Он в равной мере присущ и математике, и антропологии, и океанографии, и всем без исключения другим разделам знаний. Выдающуюся роль этот метод играет в историческом исследовании.
Представим себе, что в наши руки попала некая не известная рукопись. Древняя она или современная? Оригинал это или копия?
Достоверны содержащиеся в ней данные или вымышлены? Или, может быть, как это не редко бывает, правда переплетена с полуправдой, вымыслом, определенной тенденцией автора или переписчика?
Как отличить одно от другого? Как вылущить из массы недостоверного подлинные исторические зерна? Множество проблем такого рода встает перед исторической критикой, и, в конечном счете, ее главным методом оказываемся сравнительный анализ.
В качестве одного из примеров можно взять начертания письмен. Оказывается, буквы каждого языка не есть нечто раз навсегда сложившееся и застывшее. Наоборот, под влиянием различных обстоятельств на протяжении веков существенно меняются их начертания, и это настолько всеобще, что исследователи могут проследить самую историю буквы. Нетрудно понять прикладное значение этого факта. Изучив, как в разные периоды времени писались те или иные буквы, какие встречаются местные особенности и некоторые другие факторы, и сравнив это с письменами исследуемой рукописи, ученый получает первые исторические ориентиры, первые блоки для построения хронологических опор.
Определенное значение в этом плане имеет и материал, на котором написан документ. Материал разнообразен. Древность вырезала надписи на каменных стелах, процарапывала их и на глиняных черепках, и на свинцовых пластинках, писала на стенах зданий или каменных плитах. Широко распространены были и грифельная доска, и вощеная табличка, на которой по мягкому восковому покрытию острием металлического стерженька-стиля прочерчивались буквы, и некоторые другие виды писчего материала (например, кора липы, пальмовые листья). Но наибольшую известность получили папирус и кожа.
Папирус — это нильское растение. Для получения писчего материала папирус расслаивали на тонкие полоски, которые затем определенным образом укладывались и склеивались, образуя длиннейшие (иногда в несколько десятков метров) свитки. В греческом языке для названия этого растения, кроме слова «папирус», существует еще слово «библос», откуда всякие книги стали в дальнейшем именоваться библиями. Кожа также издревле, в особенности на Востоке, служила материалом для письма. Но наибольшую известность в этом качестве она получила лишь с того времени, когда в результате разного рода усовершенствований в ее обработке приобрела вид пергамена — первоклассного писчего материала, родиной которого считался город Пергам в Малой Азии. Отсюда, видимо, на рубеже I в. он стал распространяться по всему античному миру. Во II— III вв. пергамен успешно конкурирует с папирусом, постепенно его вытесняет, а к IV в. н. э. в ряде географических районов и для некоторого круга произведений становится господствующим.
Подобные наблюдения, проведенные исследователями, позволяют сделать определенные заключения относительно места написания вновь открытой рукописи и времени ее написания уже по характеру писчего материала. Некоторые свойства пергамена — его эластичность, неломкость при сгибании — изменили саму форму древних рукописей. Если раньше они представляли собой (и в папирусе, и в коже) сравнительно узкие длинные полосы, которые для чтения разворачивались, а при хранении свивались в свиток, то с III в. п. э. они приобрели специфические черты книг. Такие книги получили название кодексов. Они составлялись из разрезанных листов пергамена, согнутых пополам и собранных в тетради. С IV в, даже ломкий и непрочный папирус в ряде случаев соответствующим образом разрезают и брошюруют в кодексы. О времени документа говорят и пропорции листа кодексов. В наиболее ранних листы почти квадратные, позднее соотношение их длины и ширины меняется. Таким образом, и форма древней рукописи (кодекс или свиток), и пропорции листа кодекса создают определенные возможности для хронологических оценок.
Чтобы не перепутать последовательность тетрадей или листов, писцы ставили на них свои сигнатуры — отметки, чаще всего состоящие из букв алфавита или римских цифр. В позднейшее время (примерно с XI в.) на смену этим знакам пришел другой способ: в конце тетради, под строкой, проставлялось слово, с которого начиналась следующая страница. Эти детали также находят свое место в обобщающих умозаключениях и оценках исследуемых рукописей.
Большое значение приобретают и так называемые палимпсесты — рукописи, начертанные на материале, уже ранее использовавшемся. В этих случаях старые надписи с пергамена смывались (позднее соскребывались, или, возможно, как-то обесцвечивались) и по очищенному месту делалась новая запись. Много произведений древности было таким образом уничтожено, казалось, безвозвратно. Однако старые записи все-таки оставили на материале невидимые следы.
Пользуясь различными физико-химическими методами, в последнее время довольно совершенными (например, фотографирование с помощью инфракрасных лучей), исследователям удается прочитать и старую запись. Разумеется, такого рода палимпсесты очень ценны не только по существу открываемых материалов, но и потому, что они позволяют провести бесспорные хронологические границы между содержащимися там произведениями, что важно для многих других сопоставлений.
Эти и многие другие приемы исследования внешних черт рукописи, характерных примет письма, правописания и т. п. оказываются важным инструментом познания в лаборатории исследователя-историка. Они открывают возможности для объективных и обоснованных суждений.
Не менее существенную роль играет и внутренний анализ источника. В этом последнем историк всегда ищет достоверное освещение интересующих его событий. Но как измерить степень достоверности? Ведь каждый письменный источник — творение человека, и каждое событие, прежде чем оно легло на папирус или пергамен, прошло сквозь призму его авторского осмысления. Какова же эта своеобразная призма? И велик ли, выражаясь образно, угол преломления?
Таким образом, при определении достоверности источника известное значение приобретает и оценка личности автора, его мировоззрения, цели, ради которой он взялся за данный писательский труд. Разумеется, важно также установить и самый метод его работы. Так, например, известно, что одни античные авторы считали сообразным с задачей историка включать в свои сочинения все, что им удавалось где-либо услышать. Поэтому в их произведениях удивительным образом соседствуют очевидные небылицы с достоверными сведениями. Другие же, немногие, отвергали такой подход и старались в меру своих возможностей отсекать вымысел и отбирать проверенное.
Раскрытие всех этих тонких и сложных обстоятельств составляет еще одну грань деятельности исторической критики. В качестве примера можно назвать книгу пророка Исайи. Единое на первый взгляд произведение в результате критического анализа распалось на три самостоятельные части, написанные разными авторами, жившими друг от друга на расстоянии в сотни лет. Более того, внутри каждой из этих частей оказалось немало чужеродных вставок. Так, в составе Первоисайи, в целом датируемого второй половиной VIII в. до н. э., можно найти отзвуки завоевания Александром Македонским финикийского города Тира (23), которое имело место в последние десятилетия IV в.
Небезынтересен и пример другого рода. Во второй главе Первоисайи передается одно из «видений» этого пророка. Но тот же отрывок оказывается и в книге пророка Михея. Приведем эти тексты.
Исайя 2:2-4 | Михей 4:1-3 |
И будет в последние дни, гора дома господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору господню, в дом бога Иаковлева и научит он нас своим путям и будем ходить по стезям его; ибо от Сиона выйдет закон и слово господне — из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать. | И будет в последние дни: гора дома господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору господню и в дом бога Иаковлева, — и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям ею; ибо от Сиона выйдет закон и слово господне — из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои — на серпы не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать. |
Вполне очевидно, что один из авторов позаимствовал этот отрывок у другого или оба у кого-то третьего. В данном случае исследователи склонны признать приоритет за Михеем.
Все эти обстоятельства, которые современному читателю могут показаться странными и даже одиозными, в древнем мире считались обычными. Древние писатели, переписчики, составители сборников не проявляли (за редким исключением) большой щепетильности в вопросах авторского права. Они свободно и без ссылок вставляли в свое произведение целые куски из сочинения другого автора, вносили произвольные изменения и дополнения в чужой текст, подчиняя его порой собственным оценкам и взглядам.
Своеобразное отношение к понятию авторства породило еще и другие трудности. Дело в том, что в древности не считалось сколько-нибудь несовместимым с этическими и юридическими нормами присвоение сочинению малоизвестного автора чьего-нибудь громкого имени. Прибегали к этому (часто сами авторы) главным образом для того, чтобы вызвать интерес к произведению, способствовать успешному распространению заключенных в нем идей. Поэтому исследователю приходится и в тех случаях, когда автор произведения назван, каждый раз решать вопрос о достоверности такого авторства. Проблемы эти в полной мере относятся к новозаветным книгам.
Приведем еще несколько примеров аналитического подхода к источнику.
Книга одного из «малых пророков», Аввакума, в нынешней редакции состоит из трех небольших глав. Научная критика давно обратила внимание на то, что третья глава по ряду признаков отличается от первых двух и производит впечатление чужеродного придатка. Открытие рукописей Мертвого моря, среди которых был найден комментарий кумранского автора на произведение Аввакума, по-видимому, подтверждает эту гипотезу. Комментатор, живший, вероятно, в I в. до н. э., знает только первые две главы. Третью он нигде не приводит. Очевидно, в его время этой главы в книге Аввакума еще не было.
Одно из посланий апостола Павла названо в каноне Первым посланием к коринфянам. Достаточно, однако, вчитаться в текст, чтобы убедиться, что оно совсем не первое. «Я уже писал вам в послании, — укоряет он здесь коринфскую общину, имея в виду другое, более раннее послание, — не сообщаться с блудниками…» (1 Коринф. 5:9-11). Коринфяне не вняли его прежнему призыву, и он пишет им еще одно послание.
Мы заглянули в лабораторию историка и познакомились с некоторыми сторонами его поисков и методов. Разумеется, в этом экскурсе мы коснулись далеко не всех сторон деятельности такой исследовательской лаборатории. Тем не менее, прошедшие перед нами примеры дают некоторую возможность оценить степень серьезности и объективности такой работы.
Таковы некоторые аспекты проблемы Священного писания. Вполне понятно, что для беспристрастной и правильной оценки этого круга раннехристианских произведений читатель должен отвергнуть ореол святости и сверхъестественного происхождения, которым их наделяет богословие. Только рассматривая их как чисто человеческие произведения, мы можем оценить достоинства и понять слабости, объяснить противоречия и ошибки. Это единственно реальный и плодотворный подход.
Такой вывод рождается у каждого, кто вдумчиво и беспристрастно исследует Библию. Известный немецкий исследователь Вреде, который, несмотря на свою принадлежность к теологическим кругам, в некоторых вопросах сумел возвыситься до объективных оценок, писал более полстолетия назад: «Наука не может разделять старого и для многих до сих пор непоколебимого представления о сверхъестественном происхождении Библии и, в частности, Нового завета… Самые элементарные факты разрушают это представление, например многие противоречия, существующие между рассказами четырех евангелий. Кроме того, можно доказать, что это представление не существовало в эпоху возникновения новозаветных книг и, напротив, выражает уже позднейшее суждение церкви об этих книгах. Нет, книги Нового завета вовсе не продиктованы их авторам самим божеством, как думали когда-то. Напротив, они написаны людьми и чисто по-человечески. Словом, мы имеем тут дело с историческими источниками… и потому во всех отношениях изучение нашего вопроса допускает и требует полной независимости. Выводы при исследовании не могут быть установлены наперед, ход его не может быть ничем связан: иначе все его исследование окажется пустым призраком, простой забавой. Каждый исследователь должен строго остерегаться всяких мнений, основанных на вере, всяких предрассудков, тщательно оберегать от них свою личность. Дело идет об установлении подлинных фактов далекого прошлого. Какой свет могли бы внести сюда субъективные мнения и религиозные убеждения человека? Они все время лишь мешали бы нам»[4].
Если на одном читательском полюсе — он не столь уж многочислен — господствует безотчетное доверие ко всему, что написано в Библии, на другом обнаруживается противоположная крайность. Некоторые индифферентные к религии или атеистически мыслящие люди, узнав, что в этих произведениях множество противоречий, несообразностей, мифов, исключают их вообще из разряда исторических источников.
Такая позиция, хотя она порождена противоположными идейными побуждениями, столь же неприемлема и ошибочна. Дело в том, что источником является любой письменный памятник древности, как бы он ни был тенденциозен. Ибо ни один из них не в состоянии уклониться от влияния своего времени, среды, в которой он создавался, мировоззренческих, художественных, этических и тому подобных черт, которые присущи эпохе. Идеи тех или иных общественных групп, их религиозно-философские взгляды, их чаяния и идеалы, нравы, быт, речевые характеристики, даже грамматический строй языка и многие другие черты эпохи, так или иначе, находят свое отражение в литературном памятнике. Следовательно, речь должна идти не о том, могут ли, например, евангелия или ветхозаветные книги пророков служить историческим источником. Они, безусловно, могут. Вопрос заключается в том, в какой мере современная историческая критика в состоянии разглядеть в этих источниках разновременные пласты, вставки, мифы, исторические факты и т. п. — одним словом, в какой мере она в состоянии отделить легендарное от достоверного. Вполне очевидно, что в известных пределах эта задача для критического анализа посильна.
Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», — но это уже было в веках, бывших до нас.
Екклесиаст
Понятия и их словесное выражение, как и другие явления общественной жизни, имеют свою историю, и название «Новый завет» не составляет исключения. Если присмотреться к первоначальному содержанию этого словосочетания, то оно сводится к мысли, что старый завет (или союз), заключенный богом с библейскими патриархами, не оправдал себя. Люди продолжали ходить «в закоснелости преступного сердца и развратных глаз». Посему некие оппозиционные официальному иудаизму группы, почувствовав внутреннее побуждение «творить законы бога», вступили с ним в новый союз. Именно такое объяснение мы находим в древних рукописях дохристианской общины, найденных два десятилетия назад в кумранских пещерах, неподалеку от Мертвого моря. По этому признаку и община именовалась Новым союзом (заветом). Позднее, в начальную пору христианства, этим именем стали называться и раннехристианские общины. А на следующем этапе, когда из массы христианских произведений, повествующих о «словах и делах» Христа и его апостолов, церковь стала отбирать «бесспорные», название «Новый завет» было перенесено на соответствующий сборник.
Новый завет сейчас состоит из двадцати семи произведений — четырех евангелий, книги Деяний апостолов, двадцати одного Послания апостолов и книги Откровения Иоанна, или Апокалипсиса, возникших в разное время, но в основном между второй половиной I в. и первыми десятилетиями II в.
В широком смысле слова истоки новозаветной литературы столь же многообразны и сложны, как и сама жизнь общества времен формирования христианства. Трудно сколько-нибудь определенно очертить круг племен, народов, цивилизаций, так или иначе вращавшихся в сфере того гигантского политического организма, который мы зовем римской рабовладельческой державой. Не только Апеннинский полуостров, не только Греция, не только вся кайма берегов Средиземного моря, но и глубинные области Европы и Азии находились в разной степени зависимости от Рима. Атлантическое побережье Испании, Франции, «крайние пределы» Британских островов, Крым, Приазовье, Кавказ, берега Тигра и Евфрата, Персидский и Аравийский заливы, водопады Нила, северное побережье Африки — все это, по образному выражению античного автора, — вехи «забора», ограждавшего римское государственное подворье. Но и то, что находилось по внешнюю сторону забора, не могло, разумеется, избежать влияния могучего соседа и неизбежно оказывалось с ним в том или ином взаимодействии.
Беспрерывные большие и малые войны, широчайшая экономическая экспансия, эпизодические (но не столь уж редкие) целенаправленные переселения на новое местожительство целых племен, никогда не иссякавшие потоки огромных людских масс — рабов, купцов, воинов, бродячих жрецов, риторов, философов, перемещавшихся из одних районов империи в другие, — все это, кроме прочих последствий, влекло за собой беспрестанное перемещение и духовных ценностей. Вместе с людьми переселялись, естественно, и идеи, и социальные идеалы, и философские учения, и религии со своими богами, обрядностью, священными книгами. Эти сталкивающиеся, борющиеся и взаимообогащающие друг друга потоки составляют характерную черту общественной и духовной жизни Римской империи начальных веков новой эры. И формировавшееся христианство, и его литература, основу которых составляли социальные факторы эпохи, не могли не испытать влияния многих из этих разнородных идей.
Так, христианское учение о божественном Слове, Логосе, посреднике между богом и людьми, следует, по-видимому, рассматривать как обработку и развитие воззрений александрийского философа Филона. Идеи христианства о двух началах, господствующих в мире, — добре и зле, свете и тьме, непосредственно, надо полагать, связывающиеся с кумранскими воззрениями, более опосредствованно восходят к иранскому кругу. Христианское представление о мессии-спасителе является филиацией идей иудаизма, нашедших выражение в ветхозаветной части Библии. Примеры такого рода многочисленны. И они дают нам представление о тех идейных резервуарах, из которых новозаветная литература, как и само христианство, черпала полной мерой. Одним из ее наиболее существенных источников явилось священное писание иудеев — Ветхий завет.
Как известно, Библия делится на две неравные части. Первая, так называемый Ветхий завет, составляет примерно четыре пятых всего сборника, вторая часть, Новый завет, — одну пятую.
Ветхий завет (Писание) сложился как собрание священных книг древних евреев, и для приверженцев иудаизма он сохраняет это свое значение и поныне. Христианским же священным писанием, строго говоря, является Новый завет. Однако волею исторических судеб самого христианства, поначалу зародившегося в иудаизме, оно, порвав с этим последним, тем не менее, не отбросило его священных книг, но включило их в свой канон. Данное обстоятельство породило в дальнейшем большие затруднения для ортодоксальной церкви, но оно было совершенно неизбежно ввиду самого характера новозаветных произведений, тесно связанных с древнейшей частью Библии. Эта зависимость наглядно выражается уже простым арифметическим подсчетом. Только в четырех канонических евангелиях, небольших по объему, можно отметить более пятисот мест, которые своими сюжетами, образами, фразеологией перекликаются с ветхозаветными книгами, и около семидесяти прямых цитат оттуда.
Что же представляют собой эти иудаистские истоки раннехристианских идей и литературы? Каково в главных чертах содержание Ветхого завета?
«В начале сотворил бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух божий носился над водой. И сказал бог да будет свет. И стал свет. И увидел бог свет, что он хорош, и отделил бог свет от тьмы. И назвал бог свет днем, а тьму ночью» (Быт. 1:1-5).
Мы привели самые первые строки первой книги Ветхого завета. Человекоподобный бог, носясь над космической бездной, творит и формирует из первозданного хаоса и твердь земли, и «твердь небес», и моря, и мельчайшую былинку.
Таким образом, перед нами одна из наиболее ранних в истории зафиксированных попыток человека объяснить самому себе мир с его таинственными, величественными и устрашающими явлениями. В преломлении наивной фантазии предстают здесь различные картины мироздания — небо, украшенное разгуливающими по нему светилами, земля, окаймленная безднами вод, смена ночи и дня, многообразие живой природы и среди нее — сам человек, физически слабый, окруженный враждебными стихиями, «в поте» добывающий хлеб свой, но уже вкусивший от древа познания, возвышающийся над остальной природой своим выраженным стремлением осмыслить явления мира. Нет оснований пригвождать к позорному столбу неведомого автора библейского рассказа за это детское миропонимание, за примитивные и, конечно, абсолютно ошибочные видения и оценки. Здесь не сознательный обман, не преднамеренная фальсификация, а лишь отражение уровня представлений древнего общества, отвечающих примитивному, с точки зрения современного человека, уровню его материального и духовного бытия, его знаний и самих возможностей познания.
За страницами, посвященными «акту творения», следует «всемирная» история в том виде, как ее сотворила в своем воображении общественная мысль этого уголка древнейшей цивилизации. От «первочеловека» Адама через праведника Ноя протягиваются связки родословий к патриарху Аврааму. Обилие имен, однако, не в состоянии оживить эти абсолютно безликие и фантастические генеалогии.
С Авраама и следующих за ним патриархов повествование становится более пространным. Родословия чрезвычайно разрастаются. Приводится множество боковых отпочкований, которыми авторы саг хотели объяснить происхождение и наименование древнейших племен этого района. Но основная ткань рассказа плетется вокруг главного ствола — Авраама, Исаака, Иакова и его двенадцати сыновей — родоначальников двенадцати колен (племен). События происходят на территории между древней Вавилонией и Египтом. Общество, как оно выступает в этих рассказах, в основном занято кочевым скотоводством. «Пастухи овец рабы твои и мы и отцы наши» (Быт. 47:3). Наиболее заметные эпизоды этой части Ветхого завета — рассказ об Иосифе, переход израильтян в Египет, превращение их там в рабов и затем, спустя столетия, «исход» из Египта под водительством Моисея и «блуждание» в пустыне.
Следующая группа сюжетов связана с историей завоевания израильтянами «земли обетованной», Ханаана, многочисленными военными столкновениями с соседними племенами и расселением двенадцати колен на завоеванной земле.
Такова самая общая канва повествований, заключенных в Торе (Пятикнижии[5]) и в теснейшим образом примыкающем сюда шестом произведении — книге Иисуса Навина. Между этими сюжетами вводится (в одних случаях органически, а в других довольно искусственно) ряд других материалов. Среди них видное место принадлежит законодательным кодексам. «Если купишь раба еврея, — читаем мы в книге Исход, — пусть он работает (тебе) шесть лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром (21:2);… когда дерутся люди, и ударит беременную женщину, и она выкинет, и не будет (другого) вреда, то взять с (виновного) пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках; а если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб (21:22-25);… если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мяса его не есть» (21:28).
Несложность этих законоположений свидетельствует об их значительной древности и известной примитивности социальных отношений, в которых они слагались.
Рядом можно встретить столь же несложные этико-нравственные предписания: «… если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она — одеяние тела его: в чем он будет спать (22:26-27);… не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды (23:2);… не суди превратно тяжбы бедного твоего (23:6);… даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых» (23:8).
Вместе с ними в Библии имеются целые главы и даже книги, в которых содержатся детально разработанные правила ритуала, богослужения, жертвоприношения, состава священнической корпорации и других аналогичных установлений. А над всем этим, пронизывая и переплетая весь материал, высится ветхозаветный бог Яхве, с одной стороны — величественный творец всего сущего, а с другой — гневливый, впечатлительный, очень импульсивный, достаточно непоследовательный, одним словом, наделенный всеми достоинствами и недостатками, какие только присущи природе самого человека. И отношения между Яхве и отдельным человеком и всем обществом, основанные на давнем договоре-завете, сводятся к тому, что при выполнении всех зафиксированных в Библии предписаний человека ожидает благоденствие, при отступлении от них, что является синонимом прегрешения, — всякие тяжкие кары.
Нарисованная здесь общая сюжетная линия первых шести ветхозаветных книг, на первый взгляд единых по мировоззрению, составу материалов и хронологической последовательности, при более внимательном рассмотрении предстает перед нами совершенно в другом свете.
Всем ведома библейская космогония: вначале бог творит небо и землю, потом растения, затем небесные светила, животных и, наконец, венец творения — человека. Так это изложено в первой главе Бытия. А во второй — другая последовательность. Здесь первым сотворен человек, а животные — после человека, чтобы, как объясняет безымянный автор, скрасить его одиночество (2: 18-20). В первой главе Бытия женщина сотворена одновременно с мужчиной, а во второй — значительно позднее. Вполне очевидно, что здесь две различные космогонии, но автор этих глав поместил рядом обе картины мироздания, несмотря на их противоречивость.
Так же обстоит дело и с первыми родословиями. Глава четвертая Бытия насчитывает от Адама до Ноя восемь поколений, и первым после Адама стоит Каин. В главе пятой приводится такое же родословие, но здесь уже десять поколений, и первым после Адама значится Сиф.
Две или даже три версии сплелись в сказании о всемирном потопе. По одной, он длился 40 дней (7:17), по другой — 150 дней (7:24). Еще по одной версии — около года: начался в 600-й год жизни Ноя (7:11) и закончился в 601-й год его жизни (8:13)
Два различных варианта соединены и в рассказе о продаже Иосифа. По одному, братья, следуя совету Рувима, бросают его в ров, откуда проходившие мимо мадиамские купцы извлекают его и продают царедворцу фараона Потифару (37:22, 28, 36). По другой версии, братья принимают план Иуды и сами продают Иосифа измаильтянам (37:26-27).
Анализ первых шести ветхозаветных книг, так называемого Шестикнижия, позволил рассмотреть в них разнородные источники и следы различных переработок. При этом наиболее отчетливо выявились три разновременных исторических пласта. Самый нижний заключал в себе сравнительно ранние сборники мифов, преданий, космогонических представлений в ряде случаев в разных версиях, которые так здесь и удержались.
Другой исторический пласт связан с ветхозаветной книгой Второзаконие, датируемой последними десятилетиями VII в. до н. э. Главным идейным стержнем здесь оказывается осуждение старых культов, которые в предшествующем историческом пласте выступали как закономерные и естественные элементы жизненного уклада общества. Теперь Второзаконие ведет против них борьбу. Места их отправления и сами формы объявляются нарушением завета Яхве. Выдвигается требование централизации культа и его сосредоточения только в Иерусалимском храме, и под этим углом зрения перерабатывается прежний исторический материал.
Наконец, третий, самый поздний слой, относящийся к V—IV вв. до н. э., — это так называемый Жреческий кодекс. Он прослеживается в книге Исход (25-31, 35-40), обнимает всю книгу Левит, часть книги Числ (1-10) и пронизывает и другие произведения Шестикнижия, в том числе и значительную часть самой первой книги Ветхого завета — книги Бытия.
Жреческий кодекс представляет собой подробнейшую разработку вопросов отправления культа. Здесь фигурирует многочисленное жречество со своей строгой иерархией, с точнейшими предписаниями относительно различных моментов богослужения, жертвоприношения, соблюдения ритуальной чистоты и т. п. При этом Жреческий кодекс — самый поздний слой Шестикнижия — волей ею составителей «изо всех сил старается удержать костюм Моисеевой эпохи и скрыть свой собственный»[6].
Различные исторические версии и напластования рельефно выступают и в следующих за Шестикнижием произведениях. Книги Судей, Самуила, Царей[7] тоже сложились на основе неоднократной переработки различных исторических материалов — преданий, рассказов, летописей. Подчиняя все это этико-религиозным отношениям своего времени, составители не очень, видимо, заботились о самой подгонке материалов друг к другу. Вот почему сквозь библейские строки до сих пор проглядывает множество противоречий, и различные оценки и версии одного и того же события оказываются часто рядом.
Так, в первой книге Самуила посажение царя представляется делом прямо богохульным: «Не тебя они отвергли, — говорит Самуилу бог, — но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними» (8, 7). Но тут же приводится другая версия, где этот акт изображается как волеизлияние самого бога и знак благоволения к своему народу. «Завтра в это время, — повелевает бог Самуилу в следующей главе, — я пришлю к тебе человека из земли Вениаминова и ты помажь его в правители народу моему Израилю, и он спасет народ мой от филистимлян; ибо я призрел на народ мой» (9:16).
Две версии сохранились и в рассказе о великане Голиафе, страшном воине из стана филистимлян, с которым никто не решался вступить в единоборство. По одной версии, он был убит воином Элхананом, сыном Яира из Вифлеема (II Сам. 21:19), по другой — его убил будущий царь, но в то время еще безвестный юноша-пастух Давид.
Сам по себе сюжет победоносной борьбы с великаном обычен для героического эпоса, каким является исходный рассказ. Но автор этой обработки предпринял ее с определенной религиозно-назидательной целью, которую он тут же вкладывает в уста своего положительного персонажа. «Ты идешь против меня, — говорит Давид Голиафу. — с мечом, и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя господа Саваофа, бога воинств израильских» (I Сам. 17:45). Этот лейтмотив, отразивший религиозные движения и идеи позднейшего времени, составители библейских произведений стремились ввести в канву ранних исторических повествований, чтобы тем самым создать иллюзию изначальности и неизменности этико-религиозных и законодательных правопорядков Библии как божественных установлений, данных еще Моисеем.
Одной из последних значительных переделок предшествующего (и в свое время уже перерабатывавшегося) исторического материала являются книги Хроник[8]. Они оперируют в общем тем же историческим периодом, что и книги Самуила и Царей. Более того, они содержат в своем составе ряд глав и разделов, по-видимому, целиком взятых оттуда. Например, рассказ первой книги Хроник о борьбе Саула с филистимлянами (I Хрон. 10:1-12) дословно повторяет соответствующий раздел первой книги Самуила (31:1-13). И лишь в конце рассказа вводится назидательное заключение, которого в книге Самуила нет. «Так, — заключает хронист, — умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед господом, за то, что не соблюл слова господня — и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал господа. За то он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иесееву» (I Хрон. 10:13-14).
Этот мотив, встречающийся и в предшествующих пластах, в книге Хроник становится всеобъемлющим. Вся история страны, военные успехи и неудачи, возвышение и падение династий, стихийные бедствия и болезни — все укладывалось в эту нехитрую схему. Если царь послушен воле Яхве и богобоязнен, он одолевает врагов, ого род укрепляется, страна благоденствует. Если же он нарушает это правило, — его ждет погибель, поражение, плен. В свою очередь сами бедствия — всего лишь необходимая отеческая мера исправления. Она приводит к новому приливу религиозного благочестия, за которым непременно должно воспоследовать и новое земное благоденствие. Так религиозно-философская мысль эпохи послевавилонского плена оценила бесчисленные превратности исторических судеб еврейского народа того времени и вывела свои иллюзорные закономерности.
Но поскольку в действительном течении истории «божественное воздаяние» — реальные исторические факторы и события — далеко не совпадало с религиозным поведением того или иного царя, авторы Хроник «координировали» то и другое путем произвольной обработки самого исторического повествования.
Так, воцарившийся после Соломона царь Ровоам обрисован хронистом как персонаж положительный: он предоставляет приют пришлым священникам и левитам, при нем в Иерусалим стекаются все, кто ищет бога, и т. п. (II Хрон. И, 13-17). Тем не менее, на Иудею нападает Египет, Ровоам со своими военачальниками укрывается за стенами Иерусалима, и угроза, нависшая над священным городом, нависает и над теократической схемой самого повествования: благочестивый царь незаслуженно терпит бедствие. Но хронист с наивной легкостью обходит и этот подводный камень истории. Стоит ему только вставить чахлую, лишенную всякой фактологической конкретности фразу о том, что иудейский царь каким-то образом вдруг оставил бога, как нападение Египта становится исторически оправданным. Когда же Египет ограничивается лишь ограблением храмовых и царских сокровищ, не тронув в остальном ни города, ни царя, хронист тут же объясняет это исправлением Ровоама: «И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев господа и не погубил его до конца» (II Хрон. 12:12).
Другим примером может служить идеализация хронистом в духе священнического кодекса самого знаменитого персонажа Библии — царя Давида. В предшествующем историческом пласте, в книгах Самуила и Царей, облик и деяния Давида сохраняют еще живую плоть его времени. Хотя и эти повествования явились плодом определенной обработки исторических материалов, все же в них выбившийся в цари пастух Давид обладает и реальными чертами. Предводитель разбойничьих отрядов, лукавый политик, удачливый полководец, собирающий из раздробленных и враждующих земель единое государство, он, его деяния, нравственные идеалы, двор вполне вписываются в идеалы и деяния эпохи в целом. Интриги, вероломные заговоры, династические убийства, жестокие расправы над побежденными врагами, составлявшие норму политики и жизни любой восточной деспотии древности, будь то Египет, Ассирия или Урарту, составляют в книгах Самуила и Царей исторический фон правления Давида.
В книгах Хроник ничего этого уже нет. Путь Давида безжизненно ровен. Никаких набрасывающих тень деталей. Никаких неудач, поражений, борьбы за власть. Царский трон ему предает бог (I Хрон. 10:14), и военные победы ему одерживает он же (I Хрон. 14:15). Для хрониста Давид — идеал царя, «псалмопевец на троне», чаяния и помыслы которого обращены исключительно к богу, к устройству культа, организации и регламентации обязанностей священства при еще не существующем храме. Если в книге Царей последнее завещание Давида сводится к расправе с его давними внутренними противниками, чтобы «не отпустить (их) седины мирно в преисподнюю» (I Цар. 2:5-6, 8-9), то у хрониста вместо этого оказывается благочестивое пожелание постройки «дома господня» — Иерусалимского храма, детальнейшей подготовке к которому старый царь будто бы посвятил все помыслы и усилия (I Хрон. 28:29).
Так в Библии удержался двоякий образ Давида, в одном случае основанный до известной степени на исторических фактах, в другом — сотканный из теократических идеалов. Синтез того и другого и породил ветхозаветный идеал земного царя, божьего помазанника — мессии, сильного воителя и праведного судьи, который был бы способен в обстановке бесконечных и безнадежных военных и социальных конфликтов принести спасение, отразить врагов, установить мир социальной справедливости (Ис. 11:4-9). По мере того как мечтания эти оставались неосуществленными, ожидаемый мессия терял свои исходные черты. Новые идеи, идеи спасительности страданий, порожденные подлинными страданиями, наслоились на первоначальный образ (Ис. 53:2-12). Идеал мессии все более перемещался на небеса, приобретал мистические черты (Дан. 7:13-14). Но родословие его угнездилось прочно, и его по-прежнему представляли себе отпрыском «дома Давида». В этом синкретическом виде образ ожидаемого мессии из еврейской Библии перекочевал в христианские евангелия, где и получил дальнейшую разработку.
Таковы некоторые черты одной части ветхозаветных произведений. Другую группу составляют книги пророков. Само явление профетизма (института пророков) не является спецификой общественной жизни древней Иудеи. На определенной стадии оно было присуще всем пародам древности и повсюду пророки воспринимались как своего рода посредники между божеством и человеком, которые в состоянии «озарения» выражали волю «высших» сил, предупреждали о грядущих опасностях или изобличали этико-религиозные преступления.
Характеристики, встречающиеся в ветхозаветной литературе, свидетельствуют, что институт пророков восходит к прозорливцам, «ясновидящим» гадателям, шаманам, и магия, колдовство, приведение себя в состояние экстаза — необходимые инструменты пророческого состояния. Что касается роли пророков в общественной жизни того времени, то можно заметить, что отдельные личности и целые корпорации их — обычная принадлежность царских и княжеских дворов или оппозиционных кругов, и никакие более или менее значительные предприятия не начинаются без их совета.
При таких условиях, в обстановке постоянной нестабильности внешнего положения Иудеи, нескончаемых военных опасностей, разрушений святынь, увода в плен и т. п. создавалась определенная психологическая настроенность, при которой выступления пророков приобретали большое общественное звучание.
С другой стороны, не следует упускать из виду те социальные мотивы, которые нередко пронизывают некоторые из дошедших до нас пророческих книг (в особенности VIII—VI вв.). Перечень общественныхнеустройств и социальных язв, приводимых там, — концентрация земли и богатств в руках немногих (Ис. 5:8), взяточничество чиновников (Ам. 5:12), произвол верхов общества (Мих. 7:3), ущемление прав социальных низов (Ис. 10:1) и т. п. — отражает, по всей вероятности, реальные отношения различных групп и позицию самих пророков, что также определяло их общественную роль.
Что касается общего круга их тем и выступлений, то он разнороден, но подчинен во всех случаях одной характерной тенденции. Вопросы внутренней жизни, культа, династической борьбы, внешних событий и другие пронизаны в пророческих речах постоянными изобличениями в неверности Яхве и греховности народа и царей. Эти два пункта оказываются причиной и обоснованием всех событий. Они своего рода призмы, сквозь которые пророки преломляют все происходящее в мире.
Библия сохранила в своем составе произведения примерно полутора десятков пророков, живших на протяжении более пятисот лет. Одним из наиболее известных из них является Исайя. Его книга состоит из 66 глав, и уже самые первые строки указывают совершенно определенно на время ее написания: «во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии — царей иудейских». Время правления этих царей приходится на вторую половину VIII в. до н. э., и, следовательно, сама книга должна датироваться этим временем.
Однако уже при первом чтении обнаруживается, что начиная с 40-й главы меняются тон, стиль и сам сюжет произведения. В свойственных для этого рода литературы темных и громоздких выражениях, полных пророческой исступленности, бесконечных аллегорических оборотов, прямых божьих речений, пробивается некая чужеродная предшествующим главам нить рассказа. В нем упоминается «муж правды», «пастырь», божий избранник и любимец, который, как горшечник глину, топчет и владык и государства и под водительством Яхве творит суд над народами. Так претворил пророк сквозь призму своего мировосприятия реальные события и образ известного исторического лица — царя Кира (отнюдь не праведника и не приверженца Яхве), который, завоевав в 538 г. Вавилон, по политическим соображениям вернул из плена часть иудеев (45:1).
Таким образом, между 39-й и 40-й главами книги Исайи оказывается разрыв в 200 лет, и нетрудно понять, что один и тот же человек не мог выступать с проповедями и в VIII и в VI вв. Вот почему книгу Исайи приходится расчленить. Первые 39 глав в целом оказываются произведениями автора, жившего в VIII в. до н. э. Главы 40-55 (где фигурирует персидский царь Кир) возникли во второй половине VI в.; анализ следующей части (главы 56-66), где отображены новые религиозно-философские мотивы, свойственные более позднему времени, побудил исследователей отделить и эту часть, которая может быть отнесена к V в. и даже к более позднему времени.
Но и внутри каждой из этих трех частей встречаются вставки и фрагменты, принадлежащие в свою очередь и другим авторам и другому времени. Такие наблюдения удается сделать и над другими произведениями этого круга. Они побуждают нас не доверяться слепо тем заголовкам и датам, к которым они в Библии приписаны, и в каждом случае подвергать их критическому анализу.
Среди сюжетов книги Исайи, которые были унаследованы христианством и получили дальнейшую разработку в новозаветных произведениях, известный интерес представляет проблема соотношения религиозного благочестия и творимых дел. Отражая, очевидно, реальные черты этических и социальных неустройств своего времени, в частности коррупцию и произвол правящих верхов, автор и выдвигает упомянутую проблему. С одной стороны, замечает он, князья «постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа» (10:1-2), а с другой —они усердно возносят «языком своим» молитвы, производят культовые всесожжения жертвенных овнов, посвящают богу кровь агнцев и козлов (1, И), празднуют субботу и т. п. Автор устами бога осуждает такую практику. «Не носите больше даров тщетных, — говорит он, — курение отвратительно для меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие и празднование» (1:13).
Эта прикрытая религиозными покровами этико-социальная проблема, приобретавшая в ходе дальнейшей истории различные оттенки, окажется созвучной и формирующемуся христианству.
Другая тема книги — мессианские мечтания. Они проходят через все разновременные части этого произведения. Мы их находим и у автора первых 39 глав, жившего в VIII в., и у автора следующих 16 глав, жившего в VI в., и в остальных более поздних разделах. Разумеется, менявшаяся историческая обстановка побуждала каждого из авторов обращать свои взоры и надежды и к различным политическим ситуациям и различным персонажам. В одних случаях роль божьих посланцев, спасителей и помазанников отводилась реальным историческим личностям, например упомянутому выше персидскому царю Киру (45, 1), в других — более туманным, ожидаемым, но земным иудейским царям (И, 1). В одних пророчествах мессия представлялся конкретной личностью, в других — весь народ Яхве оказывался мессией. В одних разделах образ мессии трактовался как олицетворение реальной военной и телесной силы, в других, наоборот, — его силой признавались телесная слабость и безвинные страдания, которые приобретали в устах автора ценность некоего нравственного идеала (53, 1—12).
Но при всей разнородности решений образа мессии с его именем неизменно связывались извечные социальные утопии, осуществление которых воображение и пророков и слушателей относило к этому идеальному (хотя здесь еще земному) мессианскому царству. «И будет, — живописует Исайя деяния мессии, — судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл его правда и препоясанием бедр его — истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» (11:3-6).
Эти идеи и само метафорическое изображение царства социальной справедливости у Исайи будут служить авторам новозаветных произведений неизменным источником при построении своего идеального божьего царства.
Из других пророческих книг уместно упомянуть книгу Даниила, датируемую второй половиной II в. до н. э. Главный интерес ее заключается в том, что она открывает собой ряд произведений ветхозаветной апокалиптики, форма и существо которой послужили основанием для христианских апокалипсисов.
Не останавливаясь здесь на проблеме членения, состава и языка этой книги, следует отметить, что для нее характерен мистический дух видений, где в громоздких и устрашающих картинах живописуются таинственные предречения. «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый — как лев, но у него крылья орлиные… второй, похожий на медведя… и три клыка во рту у него, между зубами…» (7:4-5). Апокалиптический реквизит довольно однотипен: железные зубы, многорогие головы, огненные реки, тело, «как топаз», лицо, как молнии, ноги, как блестящая медь, наполняют все видения Даниила. И аллегорически истолковывая это, автор «открывает» своим слушателям грядущее. В книге Даниила впервые с такой определенностью выражена идея воскресения мертвых в последние дни (12:2). Здесь также говорится о страшном суде, аде, рае и других этико-религиозных проблемах, которые позднее унаследует и разработает в своих произведениях раннее христианство. В целом же можно сказать, что в пророческой литературе находят отражение различные стороны жизни общества — внешнеисторические события, внутренний уклад, социальные распри, духовные движения и т. п. Но все это здесь преломлено под углом религиозно-философского и мистического восприятия авторов пророческих книг, — восприятия, в целом проходящего под знаком гнева Яхве, мщения Яхве, страха перед Яхве, которые расцениваются как главная пружина мирового исторического процесса. И эта линия воспринимается и получает свое претворение в произведениях формирующегося христианства.
Множество других книг Ветхого завета дают пищу и поставляют цитаты новозаветным авторам и, так или иначе, отлагаются в их сочинениях. Тут и притчи царя Соломона, и псалмы Давида, и книга Иова с ее острейшими этико-религиозными проблемами возмездия, воздаяния, божественной справедливости. Даже вольнодумные философские размышления Екклесиаста о смысле бытия и цели человеческой жизни или удивительная для Священного писания эротическая Песнь Песней весьма гибко переосмысляются формирующейся церковью. Раннехристианские интерпретаторы оказались способными даже в довольно откровенных любовных диалогах персонажей этого произведения увидеть божественную аллегорию: царственный юноша Песни Песней, столь живописно воспевающий плотские прелести своей возлюбленной, по христианскому толкованию — Иисус Христос, а его возлюбленная — сама христианская церковь.
Таковы некоторые черты того огромного идейного резервуара, того собрания разнородных и разновременных религиозных, философских и этических учений, социальных утопий и исторических сюжетов, художественных образов, литературных жанров, которые явились одним из существенных источников формирующейся новозаветной литературы.
Библейская религиозно-философская идея единобожия имеет свою историю. В истоках ее оказывается простая житейская мысль о предпочтительности тех божеств, которые представлялись наиболее надежными, могущественными, радеющими за благополучие их приверженцев. Такими в каждом обществе оказывались «свои» племенные, территориальные, а позднее государственные боги. Подобно тому, как в живой природе одни организмы в ходе естественного отбора отмирали, а другие, проявившие большую приспособленность и жизнеспособность, возвышались, в «природе» человеческой психики происходил естественный отбор и богов. Общественная мысль, руководствуясь конкретными в каждом случае историко-социальными, психологическими и другими факторами, одних ниспровергала, других же возвеличивала. Это всеобщее явление в истории религии сопровождалось обычно универсализацией функций таких возвысившихся богов, борьбой между ними за главенство, которая является не чем иным, как проецированием на небеса или фантастическим опосредствованием явлений самой жизни общества. Даже при беглом чтении Библии нам открываются многие черты этого процесса и в отношении израильско-иудейского народа. В сущности, вся история библейского Яхве, преломляющая, конечно, историю общественной мысли, сводится к борьбе этого бога против своих небесных конкурентов, доказательству его превосходства и требованию не отпадать от него и поклоняться только ему.
Конкретно-исторические условия жизни Иудеи, маленького государства, которое уже в силу своего местоположения на стыке политики и интересов крупных древневосточных деспотий оказывалось и орбите бесконечных военных конфликтов, самым непосредственным образом отразились на дальнейшем развитии идеи бога. Постоянная опасность способствовала консолидации разных групп населения вокруг родового бога войны и «бога ярости» Яхве и выпячивала в психологии общества его функции единственного защитника. С другой стороны, запечатленные в пророческой литературе острые социальные противоречия, решение которых в силу довольно сложного клубка причин по преимуществу переносилось на небеса, вели к наделению того же бога чертами милосердия и социальной справедливости. Так исторически складывался образ национального бога Яхве, единственного защитника Иудеи, местожительствующего в здешнем храме и ревниво оберегающего свое единовластие. В дальнейшем ходе истории этот образ значительно усложнился в связи с развитием такого явления, как диаспора. Дело в том, что военные поражения и связанный с ними увод населения в плен, а позднее и социально-экономические факторы привели к рассеянию еврейского населения по различным районам Переднего Востока и Средиземноморья. Вместе с ним переселялся и их национальный бог Яхве. Однако новые условия жизни евреев диаспоры, более тесные контакты с греко-римским миром и его философскими и этическими воззрениями, значительное развитие прозелитизма (приобщения к иудаизму людей других религий) и общее расширение горизонтов не могли не отразиться на самом их религиозном мышлении. В представлениях диаспоры Яхве до известной степени перестает быть узконациональным богом, местожительствующим на своей библейской родине и пекущимся только об «избранном» им народе. Хотя, с другой стороны, нельзя упускать из виду, что именно «рассеяние» привносило в понятие Яхве символ утраченной родины. Тем не менее, он наделяется более абстрактными чертами глобального божества, выразителя общеэтических наднациональных правил, творящего праведный суд над всем человечеством. Именно диаспора оказала существенное влияние на дальнейшее развитие монотеистических представлений иудаизма, придав им как раз те черты, которые были восприняты и развиты христианством. При этом трансформировавшийся в таком направлении иудейский бог приходит в соприкосновение с некоторыми идеями монотеизма, вызревавшими в античной философии к рубежу новой эры. Сущность их выражалась в том, что множество разнообразных имен, которыми народы называют своих богов, и разнородные обряды и формы культов являются лишь символами единого всеобщего божества, «единого разума», Логоса, царствующего над всем миром. Что касается его оценки различными философскими школами, то здесь наблюдаются значительные колебания — от пантеизма стоиков до учения Платона и его последователей.
Для нашей темы специальный интерес представляет учение Филона, еврейского философа, жившего в Александрии между 25 г. до н. э. и 50 г. н. э.
Филон — эклектик. Его учение о боге, материи, этике и других религиозно-философских категориях построено на основе эклектического совмещения различных философских систем античного мира (Платон, неопифагорейцы, стоицизм) и ветхозаветной Библии. Исходя из первых, Филон конструирует своего бога как нечто не поддающееся никакому понятию и определению. Он транс-цендентен, он вне человеческого опыта и за пределами сознания. Бог, по Филону, лишен каких-либо определенных качеств, ибо качественность есть признак конечности, а бог должен быть бесконечным. По этой же причине он непричастен ни к чему земному и человеческому. Он — вне мира, и единственно, что ему оставляется, — это чистое бытие.
Но, с другой стороны, существует изменчивый мир, конечность явлений и вещей. Они должны иметь свою причину, и причина эта, по Филону, — бог. Как же совместить эти два противоречивых положения? Как сочетать непричастность бога как абстрактной платоновской идеи к материальному миру и причинность в его сотворении? Филон решает это (разумеется, не снимая, а усугубляя противоречие), приписав богу некие активные силы, обозначенные им Логосом.
Не вступая здесь в дебри крайне запутанных и противоречивых характеристик этого понятия в разных сочинениях Филона, мы лишь отметим, что в целом Логос понимается им как своего рода посредник между миром идеи и миром материи, между чистым бытием абстрактного, бескачественного и безэмоционального бога и конкретным, имеющим индивидуальные качества и эмоции миром. Логос в конечном счете — его творец и устроитель. Эта линия филоновской философии сделалась особенно близкой христианскому мировоззрению, была им воспринята и наиболее выразительно отложилась в самых первых строках канонического евангелия Иоанна: «Вначале было Слово (Логос), и Слово было у бога, и Слово было бог. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть» (1:1-3).
Материя, по учению Филона, — не творение бога, ибо бог идеи не может иметь к ней касательства. С другой стороны, она тоже извечна. Кроме того, материя — источник зла. Это последнее обстоятельство наложило печать на многие черты учения как самого Филона, так и последующих религиозно-философских систем гностицизма и христианства. Не только вселенная, мир, но и сам человек оказался расчлененным на тело и душу. При этом низменным и порочным элементом оказалось тело. Оно уже по самой своей материальной сущности источник зла. Оно — темница души, сосуд греховных страстей, желаний, чувственности. Оно конечно и тленно. Второй же компонент, душа, — блестка божественного разума, частица Логоса. Рассеянные в пространстве души при определенных обстоятельствах внедряются в свои темницы. Но, учит Филон, будучи происхождения неземного, они тяготеют к неземному, к познанию бога, божественных истин и добродетелей, чему, однако, препятствуют низменные свойства тела, стремящиеся поработить душу. Выходом из этой коллизии оказывается пренебрежение к телесным запросам.
Так Филон формулирует идеал аскета, который ценой подавления в себе земных человеческих свойств вступает в мистическое общение с богом. Аналогичные идеи некоторых новозаветных произведений восходят, надо думать, к этим дохристианским воззрениям.
Таковы некоторые черты религиозно-философского учения Филона Александрийского. При этом он исходил из того, что все эти истины как божественное откровение так или иначе уже представлены в Библии, и греческие философы, будь то Гераклит, Платон или стоики, свои системы почерпнули оттуда. Но так как философские воззрения античности в действительности не были воспроизведением ветхозаветных истин и далеко не всегда накладывались на библейские откровения, Филон прибегает к методу широких и произвольных истолкований библейского текста. Он исходит из мысли, что в Библии, в особенности в «Моисеевом» законодательстве, заключены два смысла. Один — дословный. Он для простых почитателей Священного писания и не претендует ни на глубокие, ни даже на верные ответы. Для избранных же в Библии заключено другое, высшее содержание. Оно как бы зашифровано в тех же самых словах, фразах, числах, образах. Но в этом случае они оказываются уже аллегориями — иносказаниями, и, чтобы добраться до их истинного значения, нужно, утверждал Филон, вскрыть подлинный, потаенный смысл этих слов.
В действительности в большинстве библейских: текстов никакого второго смысла самими авторами этих произведений не заложено. Но руководствуясь этой своей идеей, Филон написал множество трактатов, посвященных аллегорическому истолкованию Библии. Некоторые части и фрагменты его сочинений время донесло и до нас. В первые же века новой эры филоновские толкования сделались достоянием формирующегося христианства. И метод подхода к библейским текстам и во многих отношениях сущность переложений Филона нашли здесь настолько благоприятную почву, что сам еврейский философ был включен в каталог христианских святых, а его принцип сделался ключом к осмыслению и новозаветных произведений, и сочинений апологетов, и даже «лжеименных» писаний гностиков.
Гностики были частью религиозно-философского движения, широкой волной разлившегося по юго-восточному Средиземноморью в век формирования христианства. И еще до того, как это последнее отобрало и отлило свои сказания, вероучение, религиозно-философские идеи в более или менее устойчивые догматические формулы и книги, рядом с ним и в том же религиозном русле развивался гностицизм.
Здесь, разумеется, не место для сколько-нибудь исчерпывающего раскрытия этих чрезвычайно сложных идей и воззрений. Лишь один момент должен быть упомянут. Гностицизм не прошел бесследно для идеологии победившей церкви. Его учение и его священные книги — гностические евангелия, послания, апокалипсисы — создавались бок о бок с новозаветной литературой во многом на той же основе, на тех же сказаниях, исторической традиции, мистических поисках спасения. Разумеется, их влияние друг на друга было взаимным. И церковь, в известной мере заглушившая в дальнейшем развитие гностических течений в своей среде, восприняла, однако, немало из идей побежденного противника.
При всем различии отдельных направлений можно наметить и некоторые общие для гностицизма черты. В первую очередь это (как и в учении Филона) синкретическое совмещение разнородных течений и идей. Здесь и различные философские учения античного мира, и вычурные фантастические построения восточной астральной мистики, и элементы магии, мифов и других компонентов религии. Одним из центральных стержней гностических концепций является дуалистический взгляд на мир. На одном полюсе бытия помещается «вышний бог». Он — неведомый отец, непостижимая, несовместимая с материальным миром, замкнутая в себе предвечная Сущность. На другом полюсе — низменная, грязная, источающая зло Материя. Вышний бог и материальный мир, по учению гностиков, настолько противоположны друг другу, что не могут вступать между собой в контакт. Как же свести в таком случае мир с богом? И гностики конструируют целую систему посредствующих ступеней перехода — высших и низших небес, на каждом из которых помещены свои промежуточные божества, ангелы, демоны.
В силу всего этого творец мира — Демиург — считался божеством более низкого ранга, богом-посредником. И в некоторых системах он становился искупителем, совершающим нисхождение на землю, чтобы открыть людям тайное знание — «гносис», ведущее к спасению от мира материи. Сама же возможность такого «спасения» заключалась в двойной природе человека, поскольку, по учению гностиков, в него заронена частица «божественного света», духовное начало. Тело же — всего лишь его материальная оболочка, темница духа.
Нет ничего удивительного, что многие элементы этих воззрений, так или иначе, оказались в новозаветных произведениях и в сочинениях христианских теологов, хотя правоверная церковь всячески отмежевывалась от гностицизма как еретического, «лжеименного» знания. Воззрения их во многих отношениях были сопредельны и взаимозависимы. Таинственный «гносис» — мистическое познание тайн спасения — как раз в силу своего мистицизма и экзальтации имел для ранних христиан великую притягательную силу. Даже побежденный, он не мог быть целиком исторгнут из идейных владений победителя, и формирующееся христианство неоднократно прибегало и к его теологии, и к его аргументам. Здесь мы приведем лишь один пример этого рода.
Ветхий завет, как известно, — священная книга древних иудеев. Но христианство приняло его в состав и своего Священного писания. Затруднение для христианских идеологов состояло в том, чтобы объяснить, каким образом соки одного ствола могут питать враждующие между собой вероучения. Это был не простой вопрос, ибо приоритет в отношении Ветхого завета здесь принадлежал иудаизму. И автор апостольских посланий Павла приводит аргумент, восходивший в какой-то мере и к Филону Александрийскому, и к гностикам. Для уразумения тайн «Моисеева закона», утверждал он, требуется особое ведение, мистическое знание, которого нет в иудаизме. Он духовно слеп. Для него существо его собственного священного писания сокрыто. И лишь озарение, которое несет христианство, способно усмотреть заключенные там тайны спасения. «… Умы их, — говорит Павел о «сынах израилевых», — ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого завета, потому что оно снимается Христом» (II Коринф. 3:14). Здесь Христос, как и гностический бог-посредник, — носитель таинственного знания. Для иллюстрации воздействия гностицизма на христианство и его теологию можно указать, что крупнейшие апологеты раннего христианства и его известнейшие писатели Климент Александрийский и Ориген были сами изрядно заражены этим всепроникающим гносисом.
В 1945 или 1946 г. в Верхнем Египте была найдена запрятанная на древнем кладбище целая библиотека — более сорока гностических произведений. Сама находка примечательна в том отношении, что является непосредственным свидетельством преследования господствующей церковью гностиков, которые, по-видимому, перед угрозой уничтожения укрыли свои священные книги столь необычным образом. Это произошло в V в. н. э., найденные списки датируются IV в., а сами рукописи сложились, вероятно, в середине II в. н. э. на основе более ранних религиозно-философских идей.
Для уяснения характера этих хенобоскионских (как их иногда называют по месту находки) произведений и их отношения к новозаветной литературе рассмотрим в самых общих чертах некоторые из них.
Одним из них является евангелие Истины. Напрасно было бы искать такое название в христианском каноне — его там нет. Это гностическое евангелие, и оно адресуется лишь тем, кто озарен светом ведения, кто, как там говорится, «от отца истины получил милость узнать силу Логоса, пришедшего из Плеромы». Этот Логос является посредником между воспринимающим его человеком и вышним богом. Его называют спасителем, ибо «это название дела, которое он совершил для спасения тех, кого не знал Отец».
Евангелие Истины все беды видит в том, что люди, блуждая в темноте материального мира, забыли, откуда они пришли и куда должны вернуться. Они исполнены заблуждений, ошибок, иллюзий. Спасти их может лишь проповедуемое автором этого произведения тайное знание.
И Иисус Христос признается как раз носителем этого гностического учения. Недаром христианский писатель II в. Ириней предостерегал своих приверженцев по поводу того, что эти еретики «говорят сходно с нами» (правоверными христианами).
Другое произведение из хенобоскионских находок носит название евангелия Филиппа. В нем выступает дуализм этого течения. Добро и зло, свет и тьма, правое и левое даны здесь в резком противопоставлении. Автор произведения говорит, что мир не мог быть создан справедливым и добрым богом — столь он плох и несовершенен. Мир, в котором мы живем, появился как ошибка. Его творец намеревался сделать его непогрешимым и бессмертным. Но ему это не удалось. И одной из фатальных ошибок творца было разделение полов, разделение на мужчину и женщину. Когда Ева, как там говорится, была еще в Адаме, смерти не было.
К числу «странностей» этого евангелия исследователи относят неоднократное обращение его к сексуальным сюжетам. Например, об Иисусе сказано, что он любил пресловутую Марию Магдалину больше всех своих учеников и часто целовал ее в губы.
Еще одно произведение из Хенобоскионской библиотеки носит название евангелия Фомы. Несмотря на одинаковость наименований, это сочинение не имеет ничего общего с тоже апокрифическим евангелием Фомы, или евангелием Детства, которое уже давно известно по сохранившимся латинской, греческой и сирийской версиям. Вновь найденная рукопись ничего не говорит ни о детских годах Иисуса, ни о его деятельности. Она состоит из большого числа (ста четырнадцати) логий — «речений» Иисуса, следующих одно за другим и не связанных между собой единым сюжетным стержнем. Сюда же входят ответы на вопросы учеников. Примечательно, что здесь первым среди учеников Иисуса назван не Петр, как в канонических евангелиях (Матф. 16:17-19), а Фома. Это ему, Дидиму Иуде Фоме, Иисус сообщает «тайные слова» — откровения, которые тот и записывает.
Хенобоскионское евангелие Фомы, несомненно, гностическое произведение. Но вместе с тем оно в ряде элементов учения и прямых параллельных мест удивительным образом перекликается с каноническими. Все это, разумеется, открывает новые возможности для сопоставлений и изучения истоков и процессов формирования новозаветной литературы.
Среди ряда других истоков Нового завета следует остановиться на открытии, начало которого почти совпадает по времени с открытием гностической библиотеки в Египте.
На этот раз речь пойдет о находках, сделанных в 1947 г. в Иудейской пустыне, вблизи северо-западного угла Мертвого моря, в местности, именуемой Вади-Кумран. Случайные открытия в пещере древних свитков с письменами и вызванная ими лавина новых поисков и находок явили миру другую удивительную библиотеку, пролежавшую в укрытии девятнадцать столетий. Эта библиотека принадлежала основавшейся здесь еще в конце II в. до н. э. общине, которая, исполнившись эсхатологических представлений о близости «конца дней» и страшном суде, ушла в пустыню, чтобы праведной жизнью приготовиться к этим событиям.
Среди многочисленных и чрезвычайно интересных материалов, обнаруженных исследователями в этом районе, для нашей темы можно выделить ряд свитков, характеризующих религиозные представления, социальные утопии, регламентацию уклада жизни сообщества людей, которых мы условно назовем кумранитами[9]. Это, во-первых, Устав кумранской общины, к которому можно отнести (несмотря на существенные отличия в предписаниях) и так называемый Дамасский документ и рукопись, именуемую Две колонки. К этому же кругу относятся Свиток войны, Благодарственные гимны, комментарии безымянных авторов на некоторые ветхозаветные книги (Аввакума, Наума, Михея и др.). Самих же кумранитов, по-видимому, можно отождествить с одним из ответвлений иудейской секты эссенов. Описания общественного уклада и представлений этих последних, сохранившиеся в сочинениях Филона Александрийского, Плиния Старшего, Иосифа Флавия, совпадают с некоторыми установлениями кумранской общины.
Центральной осью этико-религиозных воззрений кумранитов является дуалистический взгляд на мир и действующие в нем силы. Два начала — Свет и Тьма, Добро и Зло, Правда и Кривда — сосуществуют и противоборствуют в мире. До «постановленного», хотя и неведомого людям срока они находятся в неустойчивом равновесии. И лишь в последние времена, в последнем решающем сражении ангелы тьмы будут вконец ниспровержены и воинство света победит.
Таким образом, по учению кумранской общины, до определенного времени эти два противоположных начала двуедины и взаимообусловлены, и на них бог Израиля «основал всякое действие». Под этим углом зрения в кумранской литературе разрабатываются как общеэтические и религиозные установления, так и более частные предписания, и с этих же позиций оцениваются свойственные человеку колебания между добром и злом. «До сих пор, — говорится в Уставе, — тягаются духи Правды и Кривды в сердце мужа, вынуждая ходить в мудрости и глупости» (IV, 23-24).
Сопоставление данных материалов с новозаветными произведениями выявило между ними поразительное во многих отношениях сходство идеологии, мессианской настроенности, этико-нравственных и религиозных предписаний. Например, идея кумранитов о том, что подходят «последние времена», повторяется и в Новом завете. «Время близко», — возвещает Апокалипсис (1: 3). «Ужо секира при корне дерев лежит», — в образной форме вторит ему евангелие от Матфея (3: 10).
В Уставе, где говорится о грядущем божьем суде, содержится фраза относительно отбора праведников и позорной гибели «в огне мрачных областей» нечестивцев: «Тогда бог прокалит своей Правдой все дела мужа и обелит себе из сынов человеческих плоть, принадлежащую ему» (IV, 20). Та же идея заключена в метафорической фразе Матфея: «И Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» (3:12).
Сходными оказываются и идеи греховности человека. В кумранской литературе человек является обителью греха уже ввиду самого дуалистического взгляда на мир. В новозаветной литературе он тоже обитель греха. «Если говорим, что не имеем греха, — говорится в одном из посланий, — обманываем самих себя» (I Иоанн 1:8).
В мировоззрении кумранской общины нетрудно распознать и другие черты, так или иначе встречаемые в новозаветной литературе. Как известно, одним из важных постулатов христианского вероучения является идея оправдания верой. В Послании к Галатам говорится: «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет» (3:11). Сходные, в общем, представления мы находим в кумранском Комментарии к Хабаккуку, где вера в «учителя праведности» также оказывается залогом спасения в день божьего суда.
Представляет интерес отношение кумранских авторов к жертвоприношению. В Уставе проводится та мысль, что «вознесение уст в целях правосудия», «справедливость», «совершенство пути», т. е. исполнение определенных этических и духовных предписаний, столь же благоприятны и даже более предпочтительны, чем «мясо всесожжении», «жертвенный жир», «хлебная жертва благоволения» (IX, 3-5). Это открывает некоторые возможности для сопоставления кумранских идей с новозаветными, где упор также делается на «духовные жертвы, благоприятные богу» (I Петр 2:5).
Примечательно сходство фразеологии и образов в описании совета кумранской общины и новозаветных апостолов. «Вот стена испытанная, — говорится о совете общины, — драгоценный краеугольный камень, да не потрясутся его устои и да не сдвинутся со своего места» (VIII, 7-8). «На сем камне, — говорится в евангелии от Матфея, — я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее» (16:18).
Из других более частных аналогий можно отметить сходство в процедуре тяжб. «Пусть никто не доносит на своего товарища перед старшими ни одного слова, которое не подлежит признанию перед свидетелями», — гласит Устав (VI, 1). Сходное требование мы находим и в новозаветной литературе. Дамасский документ, перекликаясь с Филоном, требует не приносить клятвы. «А я говорю вам: не клянись вовсе!» — провозглашает евангелие от Матфея (5:34). Дамасский документ осуждает развод. Осуждает его и Новый завет.
Одной из своеобразных черт социальных устремлений кумранской общины является идеал бедности. Эту же черту отметили Филон и Иосиф Флавий в отношении эссенов. Кумранские свитки подтвердили оценку. Стремление к богатству, стяжательство расцениваются здесь как западня сатаны, как свойство духа Кривды. Сравнивая эти идеалы кумранских произведений с аналогичными тенденциями в новозаветной литературе, мы находим определенные черты сходства: стяжательство — одна из западней Велиала, оно несовместимо ни с идеалом праведной жизни, ни с приобщением к богу. В новозаветной литературе встречается рекомендация раздать в обмен на перспективу приобретения «сокровища» на небесах земные сокровища нищим (Матф. 19:21) —идея, лежащая в том же русле. Еще более близким оказывается рассказ из Деяний апостолов о том, что «у множества уверовавших было одно сердце и одна душа», и никто ничего из имения своего не «называл своим, но все у них было общее…», поскольку каждый, владевший имуществом, продавая его, клал к ногам апостолов «цену проданного», т. е. отдавал его в собственность всей общины (4:32-35). Этот рассказ в целом совпадает с нормами кумранского Устава.
Довольно многочисленны примеры фразеологической близости, сходства образов, приемов цитирования. Так уже упоминалось, что название «Новый союз» или «Новый завет», прилагаемый Дамасским документом к общине «сынов света» — кумранской общине, совпадает с наименованием раннехристианских общин. Термин «сыны света», которым кумранские свитки обозначают членов общины, новозаветные произведения применяют к правоверным христианам. Противопоставляемый ему в кумранских документах термин «сыны тьмы», обозначающий приверженцев Велиала, в том же значении употребляется в раннехристианской литературе. Сопоставляя наименования «немудрствующие», «простодушные», «простецы», «малые», которыми кумранские свитки наделяют «сынов света», с новозаветными терминами «младенцы», «малые сии», исследователи выдвигают гипотезу о происхождении этой евангельской терминологии из словоупотребления кумранитов[10].
В кумранских документах встречается некоторое количество цитат из Ветхого завета. Исследователи обратили внимание на то, что набор этих цитат, а также характер их толкования до известной степени совпадают с тем, что мы находим в Новом завете. Например, во всех четырех евангелиях (Матф. 3:3; Марк 1:3; Лука 3:4; Иоанн 1:23) приводится одна и та же цитата из ветхозаветного пророка Исайи: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь господу, прямыми сделайте в степи стези богу нашему» (Ис.40:3). Та же цитата оказывается и в кумранском Уставе: «В пустыне проложите дорогу (Яхве), выровняйте в степи торный путь богу» (VIII, 14). Примерно так же обстоит дело и с цитатой из Исайи, где говорится об испытанном, драгоценном краеугольном камне — истинной вере, утверждаемой богом (28, 16). Эту цитату и ее вариации мы находим у многих новозаветных авторов (Римл. 9:33; I Петр 2:7; Матф. 21:42; Марк 12:10; Лука 20:17; Деян. 4:11). Вариант этой цитаты оказывается вкомпонованным и в текст кумранского Устава (VIII, 7-8). Имеются и другие примеры подобного рода.
Эти наблюдения позволили исследователям высказать вполне убедительное предположение, что должен был существовать какой-то ранний сборник ветхозаветных пророчеств, своего рода антология, в которой были бы собраны популярные библейские отрывки мессианского характера и из которого черпали и кумранские и, по-видимому, раннехристианские авторы.
Привлекает внимание в кумранских свитках и сюжет некоего рассказа, дошедшего до нас лишь в незначительных фрагментах. Главный персонаж зашифрован автором под именем Учителя праведности. Он изображается как божий посланец, который получил учение «из уст бога» и которому открыты «все тайны слов его пророков-рабов». Он явился, чтобы вести по пути праведности всех примкнувших к нему (очевидно, сообщество «избранных»— кумранскую общину). Ему противопоставляется могущественный противник (тоже безымянный) — Нечестивый жрец, которого исследователи довольно единодушно отождествляют с первосвященником Иерусалимского храма. Преследования Учителя праведности Нечестивым жрецом, стремившимся «поглотить его в гневе своего пыла», «умертвить его», составляют основную драматическую коллизию повествования. Отрывочность и значительные сложности, встречаемые при переводе этих мест, породили различные оценки некоторых аспектов этого рассказа. Тем не менее, ряд видных кумрановедов находит в рукописях основания для оценки Учителя праведности как мессии, который, будучи преследуем, погиб насильственной и, следовательно, мученической смертью. Однако его сторонники рассчитывали, что «в конце дней» он явится вновь, чтобы судить народы, и что их страдания и вера в него принесут им спасение.
Такая оценка Учителя праведности, будучи сопоставлена с евангельскими рассказами об Иисусе Христе, обнаруживает известные элементы сходства. Здесь, прежде всего, бросается в глаза сходство общей сюжетной линии: некая исключительная личность — богочеловек в Новом завете, божий избранник в кумранских документах — «поставлен» самим богом, чтобы возвестить людям истинное учение, которое должно «спасти» их в день «божьего суда». Далее и евангельский Иисус и кумранский Учитель праведности наталкиваются на нечестивцев, которые не только отказываются верить, но подвергают преследованию самих учителей. И там и здесь дело оканчивается насильственной мученической смертью божьих посланцев. И, наконец, в кумранских рукописях и в новозаветной литературе постулируется их возвращение. Обращает на себя внимание также и мессианская настроенность тех разделов кумранской и новозаветной литературы, где говорится об этих персонажах. Однако их нельзя отождествить, поскольку кроме существенных внутренних различий в евангельских и кумранских повествованиях этому препятствует хронологическое несоответствие: евангельский Иисус на столетие моложе кумранского Учителя праведности.
Таковы некоторые черты сходства идеологии, социальных идеалов кумранской и раннехристианских общин, совпадение некоторых сюжетных линий, текстуальная и фразеологическая общность, элементы сходства в облике центральных персонажей и т. п. Элементы сходства не исчерпываются приведенным здесь материалом. Кумрановедческая литература по мере публикации и изучения найденных рукописей пополняется новыми фактами подобного рода.
Говоря таким образом, мы должны помнить и о многочисленных и крайне существенных различиях между этими двумя группами произведений. Но в данном разделе, где речь идет о выявлении источников, откуда новозаветные авторы могли черпать свои сюжеты, образы и идеи, нас, естественно, интересуют черты сходства. Они свидетельствуют, что литературное и идейное наследство кумранитов не могло не сыграть своей роли в формировании раннехристианской литературы. Разумеется, процесс этот не был ни простым, ни однолинейным. Некоторые кумранские представления здесь во многих отношениях смыкаются с ветхозаветным кругом идей, которые, являясь одним из источников нового завета, формировали в известных пределах и идеологию самих кумранитов.
В целом же можно сказать, что множество идейных, религиозных, социальных, литературных родников, рождаемых в недрах самой жизни римского общества этой поры, беспрестанно вливалось и в формирующуюся христианскую литературу.
Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, кап передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, — то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил…
Евангелие от Луки
В состав Нового завета входят четыре евангелия, помеченные именами Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Однако некоторые специфические черты их содержания, религиозно-философских идей, даже фразеологии побуждают разделить их на две группы: первые три и четвертое.
Для исследователя каждая из этих групп и каждое произведение в отдельности — сложный клубок исканий, проблем, решений. Тут и вопросы авторства (соответствуют ли имена авторов, которыми они обозначены, исторической действительности?), и вопросы относительной хронологии (в той ли хронологической последовательности они были написаны, как это представлено в церковных изданиях Библии?), и вопросы абсолютной хронологии (когда каждое из них увидело свет?), и вопросы источников (откуда брались те сведения, которые там приводятся?), и многие другие.
Необходимо сразу же отметить, что не все вопросы могут считаться решенными. Ряд проблем все еще остается открытым ввиду недостаточности материалов, которыми сейчас располагают исследователи. Тем не менее, и то, что достигнуто, представляет несомненный интерес и позволяет взглянуть на эти произведения совершенно иначе, чем предлагает богословие.
Рассмотрим основные сюжетные линии первого в церковном каноне евангелия от Матфея.
У еврейской женщины Марии, рассказывается там, обрученной Иосифу, родился внебрачный сын «от духа святого» Иисус (1:20). Это произошло в небольшом иудейском городке Вифлееме в дни царя Ирода. Восточные астрологи узнали об этом по состоянию звездного неба. Предводительствуемые звездой, они нашли дом, где пребывал новорожденный, и поднесли ему дары как народившемуся новому царю — мессии. Между тем царь Иудеи Ирод, узнав о новорожденном и не сумев выведать, где тот пребывает, в гневе послал избить всех младенцев в Вифлееме и окрестностях. Однако Иосиф, предупрежденный ангелом, заранее бежал со всем семейством в Египет. Позднее, когда опасность миновала, они возвратились и поселились в Назарете.
Здесь в канву рассказа вводится новый персонаж — проповедник Иоанн, который живет в пустыне, ведет аскетический образ жизни и предрекает близкий конец света со всеми сопутствующими ему в представлениях общества того времени аксессуарами: страшным судом, отбором праведников и уничтожением грешников. В преддверии этого «вся Иудея» идет к Иоанну креститься и тем самым получить отпущение грехов. Среди пришельцев был и ставший к тому времени взрослым Иисус. В процессе крещения на него нисходит дух божий, и Иисус становится бродячим проповедником. Без конца переходит он с места на место, произнося проповеди, споря с другими законоучителями Иудеи и попутно врачуя физические недуги. Ассортимент этих недугов (перед читателями проходит хотя и обозначенная именами, но, в общем, довольно безликая чреда увечных, хромых, слепых, припадочных, бесноватых), а также крайне тривиальный характер рассказов об их исцелении, несомненно, передает колорит самой эпохи. Эти убогие — непременные действующие лица всяких молитвенных и религиозных собраний — оказывались излюбленными персонажами житейских рассказов о чудесах, до которых была падка экзальтированная толпа.
Что касается самого учения, то, рассеянное по многим главам, оно не производит впечатления чего-то цельного. Отдельные речения, притчи, сентенции, обрамленные однотипными жанровыми сценками и сообщениями о чудесах, в общем, посвящены различным этико-нравственным, религиозным и социальным проблемам. Не приходится сомневаться, что сами проблемы — не голые абстракции и не плод беспредметного вымысла. Выражаясь образно, в зеркале Иисусовых проповедей отобразились реальные явления эпохи: психический строй определенных слоев общества, уклад их жизни, их надежды, опасения, идеалы и т. п. И тут, как мы это покажем позднее, с наибольшей определенностью выступает разнородность элементов, составляющих нынешнюю редакцию евангелия Матфея.
Своего рода «катехизисом» евангельской морали принято считать так называемую Нагорную проповедь. Она занимает целых три главы (Матф. 5-7) и по первому впечатлению представляется чем-то целостным и законченным. Главной духовной пружиной Нагорной проповеди, которой, в общем, обусловлены сами ее этико-моральные предписания и сентенции, является извечная в истории религиозной мысли человечества идея воздаяния и возмездия. Картина египетского суда Осириса, лейтмотив ветхозаветной книги Иова, острые, полемические строки Лукреция — все они с разных позиций вращаются вокруг этой идеи. Разумеется, не могло пройти мимо нее и нарождавшееся христианство. При этом социальный аспект проблемы на первых порах выступал в своей бесхитростно-материальной сущности. Так, в недавно найденном в Верхнем Египте апокрифическом евангелии Фомы (которое, по оценке исследователей, стоит наиболее близко к евангелию Матфея) говорится, что в возмещение социальных обид и страданий бедные получат свое и голодные «наполнят свои желудки по своему желанию». В Нагорной проповеди эта социальная окрашенность идеи воздаяния оказывается уже притушенной. Не бедные в непосредственном значении слова, а «нищие духом» оказываются претендентами на удел в божьем царстве, и сами страдания меняют свою окраску. Из сферы социальной они определенным образом сдвигаются в сферу этико-религиозную — страдания за веру.
Таким образом, Нагорная проповедь, обращенная к тем, кому на социальной лестнице римского рабовладельческого общества достались самые нижние ступени, снимает проблему социального воздаяния. Она подменяется отношением каждого к новой религии и готовностью за нее претерпеть. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить меня», — говорит устами Иисуса автор Нагорной проповеди (5:11). Соответственно идея воздаяния в целом приобретает характер ирреальной религиозной мечты. Ее реализация целиком переносится с земли на небо, и таким способом новая религия освободила себя от упреков, которыми протестующий Иов осыпал ветхозаветного бога.
Что касается самих нравственных идеалов, возглашаемых Нагорной проповедью, то они обращают на себя внимание своей разнохарактерностью. Во-первых, автор освящает ряд давно сложившихся общечеловеческих моральных принципов. Он восхваляет такие черты в индивидууме, как миролюбие, уживчивость, негневливость, доброту («просящему у тебя дай»), которые в известной мере противостояли практике верхов общества и уже этим импонировали низам. Здесь постулируются и такие высокогуманные идеи, как унаследованная из предшествующих христианству нравственных кодексов формула: «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (7:12).
Наряду с такими предписаниями эта среда породила и некоторые нравственные нормы — непротивление злу, любовь к обидчику и другие, выражавшие более общие тенденции раннего христианства к переоценке ценностей и игнорированию сложившихся отношений. Это была своеобразная форма протеста против мира действительности, мира зла, которому противопоставлялись необычайные и нереальные этические нормы.
Некоторые другие положения выражали аскетические тенденции и пуризм раннего христианства. «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ною в сердце своем», — возглашает Нагорная проповедь (5:28). Кто женится на разведенной — тоже прелюбодействует. И лучше вырвать глаз или отсечь руку, чем давать себя соблазнить таким образом. Нагорная проповедь рекомендует отречься от сокровищ на земле, «где моль и ржа истребляют и воры подкапывают и крадут» (6:19), во имя духовных сокровищ на небесах. Это поучение понимается настолько расширительно, что в дальнейшем рекомендуется вообще не заботиться о завтрашнем дне материального мира и уподобиться птицам небесным, которые «не сеют, не жнут, не собирают в житницы» (6:26), но произволением божьим кормятся и живут.
Таковы некоторые черты Нагорной проповеди. Сентенции, притчи, афоризмы, содержащиеся в остальных главах, дают представление и о других сторонах учения. И здесь идея воздаяния — главная тема. Она тесно переплетена с представлениями о небесном царстве, наступление которого представляется делом близким — «не пройдет род сей, как все сие будет» (24:34; ср. 10:7, 23). Наступление его рисуется как всеобщий катаклизм, где будут подбиты итоги и сведены счеты, где «солома будет отделена от пшеницы», праведники от грешников, и каждый получит свое. Небесная секира, огненная печь, плач и скрежет зубовный, с одной стороны, и тихое, утратившее земные страсти, дематериализовавшееся «ангельское» естество тех, кто войдет в небесное царство, — обычный реквизит евангелиста при описании подобных сцен. Это стремление перевести в потусторонние сферы земную и часто социальную подоплеку раннехристианского движения является характерной тенденцией новозаветных произведений. Вполне земные чаяния низов общества, заключенные в формуле «первые станут последними» отрицает это. Но само сохранение здесь такого антихристианского фрагмента, как фраза: «И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня» (28:15), — тоже передает колорит эпохи и некоторые черты борьбы, которая происходила на этой почве между различными религиозными группами.
Характерной тенденцией составителя евангелия Матфея является стремление представить описываемые там события как осуществление «реченного через пророков». Рассказ о непорочном зачатии Марии сопровождается замечанием, что «все сие произошло» как реализация предсказания Исайи (Матф.1:22, 23), рождение Иисуса в Вифлееме — ввиду того, что такое пророчество содержится у Михея (Матф.2:4-6), избиение младенцев Иродом — как исполнение пророчества Иеремии (Матф.2:16-18), и т. п. Даже «соблазн» отречения и бегства апостолов в ночь ареста Иисуса имеет своей исходной позицией предречение пророка Захария (13:7): «ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы стада».
Этот подход евангелиста побуждает вспомнить характер некоторых кумранских произведений. Например, в кумранском Комментарии к Хабаккуку безымянный автор рассматривает события своих дней как реализацию пророчеств Аввакума, жившего задолго до этого времени. Руководствуясь такой посылкой, автор Комментария выписывает фразу за фразой из Аввакума и произвольно вкладывает в них тот смысл, который подсказывается ему его собственными идеями и оценками.
Евангелист исходит из такого же принципа, и, разумеется, его метод уводит далеко по пути произвола. Вот почему в этом произведении многие рассказы носят характер чисто авторских конструкций, лишенных каких-либо исторических оснований и свидетельствующих лишь о том, что ветхозаветная часть Библии являлась существенным источником идей и сказаний формирующегося христианства.
Всматриваясь в евангелие Матфея как в единое литературное произведение, мы можем подметить за его внешней целостностью различные несообразности и противоречия. Они наводят на мысль о более сложном, чем это может показаться на первый взгляд, составе этого произведения. В известной мере здесь оказывается ситуация, сходная с той, которая иногда встречается у археологов, когда, раскапывая древнее здание, они замечают, что архитектурные детали его не соответствуют стилю и пропорциям постройки, а стены сложены из плохо пригнанного и взятого из других сооружений строительного материала. Критическое осмысление таких особенностей и изъянов архитектурного памятника дает возможность раскрыть самую его историю; аналогичный подход вполне приложим и к рассматриваемому нами памятнику литературному.
Та редакция евангелия Матфея, которой мы располагаем сейчас (и ее вариации), в общем, цельное произведение. Оно имеет единую композицию, материал определенным образом сгруппирован. Исследователи заметили и выделили некоторые особенности стиля, характерные для этого автора, его предпочтение одних грамматических оборотов другим. «Тогда, — нагромождая одно деепричастие на другое, пишет евангелист, — воины правителя, взявши Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздевши его, надели на него багряницу и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову… и, становясь пред ним на колени, насмехались… и, взявши трость, били его по голове» (27:27-30). Была замечена и некая терминологическая специфика, связанная, по-видимому, с определенной трансформацией взглядов. Так, автор евангелия Матфея в отличие от других евангелистов, предпочитающих выражение «божье царство», вводит термин «небесное царство» и т. д.
Но при всем этом разнородные «строительные блоки» и плохо пригнанные архитектурные детали то и дело выпирают из постройки евангелиста, привлекая внимание и требуя объяснения.
Рассмотрим несколько таких случаев.
Глава первая начинается словами: «Родословие Иисуса Христа сына Давидова» (1:1). Через 22 главы евангелист, описывая полемику Иисуса с фарисеями, приводит следующий диалог: «Что, — спрашивает тот своих противников, — вы думаете о Христе? Чей он сын? Отвечают ему: Давидов» (22:42). Но на этот раз такое утверждение отклоняется и, выставив свои аргументы, Иисус заключает: «Итак, если Давид называет его господом, как же он сын ему?» «И никто, — заключает автор диалога, — не мог отвечать ему ни слова» (22:45-46). Нетрудно понять, что здесь в одну и ту же кладку, если продолжить прежнюю метафору, положены разнородные, и вероятно, разновременные идеи, почерпнутые автором из разных источников.
В главе 3-й Иоанн Креститель знает, что Иисус — мессия, и на этом основании отказывается поначалу крестить его. «Мне надобно креститься от тебя», — возражает он (3:14). Ряд знамений, в том числе и «глас с небес глаголющий», лишний раз подтверждает это Иоанну (3:16-17). А через восемь глав тот же Иоанн об этом ничего не знает и, прослышав о делах Иисуса, посылает своих учеников к нему с вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» (11:3). Понятно, что здесь в одном произведении соединены две различные версии.
В 4-й главе говорится о призвании Иисусом четырех учеников: Симона-Петра и Андрея, Иакова и Иоанна. Через пять глав он привлекает еще одного — Матфея. Всего — пять человек. Но в следующей главе неожиданно оказывается двенадцать.
Уже в главе 4-й постулируется знакомство Иисуса с зданием Иерусалимского храма. В главе 21-й он там фигурирует дважды — изгоняет менял и в другой раз приходит и учит. Но автор главы 24-й ничего этого как будто не помнит и утверждает, что только сейчас ученики решили «показать ему здание храма». Читая последующие строки, мы понимаем, что автору евангелия или позднейшему редактору понадобилась фраза о храме как строении, чтобы вложить в уста Иисуса слова о том, что «не останется здесь камня на камне, все будет разрушено» (14:2). Как известно, разрушение Иерусалимского храма произошло спустя несколько десятилетий после времени, которое имеет в виду евангелист. Храм был разрушен во время иудейского восстания против Рима в 70 г. н. э. Это дает нам представление о времени, когда могла быть введена такая интерполяция. Что касается указанных выше изъянов и противоречий этой раннехристианской редактуры, то мы уже имели случай отметить, что древний мир более вольно, чем наше время, смотрел на такие вещи. Понятия литературной фальсификации и тому подобное были для него чужды, и авторы не очень тщательно заделывали соединительные швы.
Одна из проблем, которая в начальную пору формирования христианства была средоточием острой борьбы в ранних общинах, сводилась к вопросу об отношении новой религии к «закону» — этико-религиозным, правовым и другим установлениям Ветхого завета. В ходе этой борьбы точки зрения менялись. Однако евангелие Матфея аккумулирует и те и другие, вкладывая порой взаимоисключающие положения в уста одного и того же персонажа. «Не думайте, — поучает Иисус в Нагорной проповеди, — что я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из Закона» (5:17-18). Но тут же умещаются и положения, резко противопоставляющие ветхозаветный закон новому учению. «Вы слышали, — заявляет он, — что сказано (в Ветхом завете. — М. К.): око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую… Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас» (5:38-39, 43-44). Иисус дезавуирует Иисуса!
В главе 10-й евангелия Матфея подчеркивается внутрииудейский характер учения Христа. «На путь к язычникам не ходите, — предписывает Иисус своим апостолам, — и в город самаритянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома израилева». Аналогичные рекомендации содержатся и в других главах. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (15:24). Но в главе 28-й уже иная рекомендация. «Итак, — говорит он, — идите и научите все народы» (28:19).
Анализируя природу таких противоречий, сопоставляя различное освещение тех же вопросов в разных разделах евангелия, мы получаем известную возможность уловить живые и подвижные черты умонастроений эпохи формирования христианства, борьбу идей, смену воззрений. Именно этот живой пульс земного и, следовательно, материального, социального, общественно-политического бытия, который, реагируя на непрерывно меняющиеся ситуации, не вьется, разумеется, ровно, и является основой бесконечных несообразностей евангелий. То, что «вчера» для самих христианских общин представлялось истиной, «сегодня» оказывалось заблуждением, и все это так или иначе отложилось в рассказах, притчах или их записях. Пользуясь разнородными источниками, скомпоновав их в одном произведении и не очень «притерев» друг к другу, автор евангелия Матфея, естественно, не мог избежать противоречий.
Иногда сквозь строки евангелия прорываются намеки на некие дискуссии, сейчас, разумеется, представляющие лишь исторический интерес, но в свое время потрясавшие умы и сердца. Вот, например, фраза из Нагорной проповеди: «И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (5:15). В такой образной форме говорится о необходимости открытого проповедования нового учения. Однако более проницательное проникновение в эту фразу, терминология, восходящая к кумранскому кругу литературы, и некоторые другие элементы всего отрывка побудили исследователей предположить, что здесь отразилась полемика с кумранитами, которую вело раннее христианство. Как уже отмечалось, последнее почерпнуло немало идей и элементов своего учения из кумранского источника. Однако кумранские сектанты, представлявшие собой узкую социальную прослойку, окружили свое учение ореолом тайны, посвящение в которую, равно как и вступление в общину, было осложнено целым рядом искусов. Христианство, складывавшееся на другой, более широкой социальной основе, выдвинуло идею «проповедовать на кровлях». Оспаривая кумранскую доктрину, автор этого поучения в свойственной ему образной форме замечает, что невозможно спрятаться городу, который стоит на вершине горы, равно как и не годится зажженную свечу укрывать сосудом, непроницаемым для света.
Другая фраза из притчи о небесном царстве, по-видимому, вводит нас в проблему, поставленную перед религиозной мыслью гностицизмом. Сущность ее заключалась в том, что если мир и все его содержимое сотворены благим «вышним» богом, то откуда зло в мире? В метафорической форме евангельской притчи это выражено так: «Пришедши же, рабы домовладыки сказали ему: господин, не доброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» (13:27). Ответ евангелиста, что это дело рук врага рода человеческого, не производит сильного впечатления, поскольку этот враг — тоже творение бога.
Наряду с противоречиями евангелие Матфея довольно обильно уснащено и повторениями. Иногда это более или менее отклоняющиеся друг от друга версии. Иногда автор словно позабыл, что тема уже использована им, и он возвращается к ней в другом месте. Часто повторяются одинаковые фразы, своего рода штампы, которые автор вводит в речи совершенно разных персонажей или приписывает одному и тому же лицу, но по совершенно различным поводам. Например, в 3-й главе Иоанн Креститель, начав проповедовать, говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». В главе 4-й за проповедь принимается и Иисус. Но и он произносит те же слова: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». В Нагорной проповеди Иисус, предупреждая о соблазне прелюбодеяния, говорит: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (5:29-30). Через тринадцать глав, совершенно в другом поучении, где говорится о соблазнах духовных (соблазне еретического отпадения от бога), оказывается тот же литературный трафарет. И здесь автор приводит и глаз, который лучше вырвать, и руку, которую лучше отсечь, и т. д. (18:8-9) «… Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах», — говорит Иисус Петру, вознаграждая его за удачный ответ (16:19). Но те же самые слова он повторяет в другом месте и совсем по другому поводу (18:18). Дважды в разных местах приводятся его рассуждения о разводе, и аргументация его позиции дана и там и здесь в совершенно одинаковых выражениях (ср. 5:32 и 19:9).
Сопоставим в заключение две евангельские версии о насыщении хлебами.
Матфей 14:19-23 | Матфей 15:35-39 |
И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей… И отпустив народ, он взошел на гору… | Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку… |
Евангелист наивно предлагает считать эти рассказы за два самостоятельных эпизода. Не требуется, однако, большой зоркости, чтобы понять, что это всего лишь две почти не различающиеся друг от друга версии, которые нетребовательный автор механически поставил друг за другом.
Подобные материалы дают нам известное представление о манере и принципах работы составителя евангелия Матфея, а также о степени исторической добротности тех кирпичей, из которых он возводит свою постройку. Всматриваясь в эти уже давно омертвелые схемы рассказов, литературные штампы и трафареты, бесконечные противоречия и повторы, мы не можем не понимать, что автор данной редакции не очевидец того, о чем он пишет. Более того, должно было пройти немало лет, чтобы до такой степени стерлись некогда живые краски многих рассказов и версий, возникавших среди первых христиан. Все это ставит перед исследователем новые задачи поиска.
Знаменитый церковный писатель второй половины III и первой половины IV в. Евсевий, собиратель разнообразных материалов о первых веках христианства, сохранил древнейшее свидетельство о евангелии Матфея. Оно принадлежит епископу Фригии Папию и восходит к первой половине II в. н. э. «Матфей, — говорится там, — записал изречения (λόγια) господни на еврейском языке, а переводил их кто как мог»[11]. Выражение Папия τα λόγια (логии) благодаря археологическим открытиям стало для нас вполне осязаемым. Еще в 1897 г. в Оксиринхе (Египет) был найден фрагмент первого сборника таких логий, содержащих восемь «речений» Иисуса. В 1904 г. там же был найден еще один фрагмент из шести изречений. Обнаруженное в 1945 г. коптское апокрифическое евангелие Фомы содержит множество аналогичных логий. Все они претендуют на роль непосредственного отпечатка с подлинных речений Христа: «Иисус сказал». Это — преамбула каждого речения. Как можно судить по имеющимся у нас материалам, речения в таких сборниках стоят изолированно и не объединены ни связующими вставками, ни толкованиями. В этой связи уместно припомнить, что, по заметке Евсевия, имелись специальные толковники, изъясняющие эти «господни речения»[12].
Если в свете этих данных вернуться к заметке Папия, то придется признать, что евангелие Матфея не является тем произведением, о котором упоминает Папий. И не только потому, что оно написано на греческом языке, а логии на арамейском, но и ввиду полного различия их структуры. Греческое евангелие Матфея с композиционно уравновешенным соотношением историко-повествовательных и других сюжетов должно рассматриваться как более поздняя ступень формирования раннехристианской литературы, в которую логии входят как один из ее элементов. Нет сомнения, что, как и другие материалы, использованные автором евангелия, они претерпевали при этом определенные изменения. Имели место, по-видимому, и отбор и редактура. Во всяком случае, ряда логий, упоминаемых у древних церковных писателей, а также в найденных египетских папирусах, в евангелии Матфея нет. Многие звучат иначе. Например, один из логиев оксиринхского папируса читается так: «Говорит Иисус: не бывает принят пророк в отечестве своем, да и врач не лечит знающих его». В евангелии Матфея он приводится с существенным сокращением: «Иисус же сказал им: не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем» (13:57). В оксиринхском папирусе мы читаем: «Город, построенный на вершине высокой горы и укрепленный, не может ни упасть, ни быть сокрытым». В евангелии же Матфея это речение стоит уже не обособленно, а в длиннейшем ряду поучений Нагорной проповедии в соответствии со всей темой оно изменено и текстуально, и по смыслу. «Вы свет мира, — пишет евангелист и, имея в виду светоч христианского учения, которое не может быть укрыто и должно светить всем, использует в качестве аллегории фрагмент из приведенного речения. — Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (5:14).
Все это подводит нас к проблеме источников евангелиста, проблеме необычайно сложной и изобилующей рядом белых пятен. Если в настоящее время уже не может быть сомнений в том, что каноническое евангелие Матфея — не первоисточник, не свидетельство очевидца, а сложное и подчиненное определенной тенденции назидательное литературное произведение, то этапы его становления и его источники подлежат дальнейшему изучению.
Восстановление непрерывной цепи, которая протянулась бы от самых начальных событий истории христианства до редакций нынешних евангелий, несомненно, стерло бы много белых пятен из истории становления новозаветной литературы. Сейчас, однако, вырисовываются лишь отдельные звенья. В самых общих чертах они представляются в следующем виде. Создание евангелий следует отнести ко второму-третьему поколению христиан. Между ними и событиями, о которых там говорится, пролегло немало ступеней. Это, во-первых, логии — речения, приписываемые Иисусу. По-видимому, они ранее других оформились как письменные сборники. Это также изустные рассказы «о событиях», вращавшиеся вокруг одного центрального сюжета и расцвеченные воображением рассказчиков, их мифотворческим кругозором и т. п. Разумеется, в передаче разных лиц детали изображались по-разному. Возможно, что на более позднем этапе и эти устные и короткие рассказы также были сгруппированы в сборники. Эти и, вероятно, другие материалы легли в основу первых редакций евангелия. Рядом с ними долго продолжала удерживаться и устная традиция, подвижная и обрастающая новыми подробностями, как и всякая устная традиция. По свидетельству Пания, она удерживалась и играла значительную роль еще в первой половине II в. н. э., и он сам собирал сведения такого рода. «Я не премину изложить тебе, — говорится в цитате из его сочинения, сохраненной Евсевием, — что хорошо узнал от старцев и хорошо запомнил… Если мне случалось встречать кого-либо, обращавшегося со старцами, то я заботливо расспрашивал об учении старцев, например, что говорил Андрей, что Петр, что Филипп, что Фома или Иаков, что Иоанн или Матфей, либо кто другой из учеников господа, что Аристион и пресвитер Иоанн, ученики господа. Ибо я полагал, что книжные сведения не столько принесут мне пользы, сколько живой и более внедряющий голос»[13].
Евсевий приводит примеры и данные, почерпнутые Папием из устного предания. По-видимому, такие сведения не всегда устраивали позднейшую церковь — Евсевий нелестно отзывается об уме Папия. И это неодобрение знаменитого церковного писателя мы легко поймем, если узнаем, что Папий собрал некоторые не вошедшие в евангелия притчи и сентенции Иисуса и вразрез с учением евангелистов утверждал, что царство божие наступит «на этой самой земле — телесно».
Подобная устная традиция, вбиравшая все новые идеи и тенденции, при последующих редакциях евангелий снова как-то учитывалась, пополняя, таким образом, эти произведения разноречивыми положениями.
Немалое значение имеет и вопрос о языке. Первоначальное христианство должно было говорить на языке общества, из которого оно вышло. Этим языком был тогда арамейский. Между тем дошедшие до нас евангелия — все на греческом. Сборники речений, логии — тоже на греческом. Следовательно, между ними и их истоками должны были стоять еще и переводчики.
Нет серьезных оснований полагать, что та редакция евангелия Матфея, которой мы располагаем, — первая. Исследователи находят возможным говорить о предшествующих редакциях, легших в ее основу. «Биография» первого евангелия христианского канона оказывается куда более сложной, чем ее представляет нам консервативное богословие.
Основные сюжеты, персонажи, принципы построения, подход к источникам и другие черты евангелия Матфея, а также побудительные причины, приведшие к его созданию, в известной мере типичны для этой группы. Авторы евангелий Марка и Луки так же подходили к своей задаче. Поэтому в каждом из них в той или иной мере наблюдаются те же явления: несовместимые положения, противоречия, плохо подогнанные стыки разноречивых источников и т. п. Вместе с тем можно подметить и некоторые специфические черты.
Самым ранним упоминанием евангелия Марка является заметка того же Папия, в которой он ссылается на некоего пресвитера Иоанна. В заметке говорится, что Марк был переводчиком апостола Петра и, сопровождая его, тщательно записал все, что тот говорил в своих проповедях. Уместно подчеркнуть два обстоятельства, выделенные Папием. Первое — что Марк эти записи делал по памяти, и второе — что проповеди и деяния Иисуса изложены им не в последовательном порядке. Объясняя это самим характером проповеди Петра, Папий заканчивает свое свидетельство так: «Поэтому Марк нисколько не погрешил, описывая некоторые события так, как он припоминал. Он заботился только о том, чтобы ничего не упустить из услышанного и не переиначить»[14].
Замечание относительно исторической или хронологической непоследовательности изложения материала вторым евангелистом вызывает ряд вопросов. Поскольку евангелие Марка до известной степени сходно с евангелиями Матфея и Луки, заметка Папия косвенно дезавуирует последовательность материала и этих произведений или же дает повод думать, что перед ним была другая, до нас не дошедшая редакция Марка.
Другой вопрос в том, какова же правильная последовательность изложения и где тот эталон, по которому Папий выверял Марка? Поскольку в следующих строках он упоминает апостола Матфея и его записи логий на еврейском языке, можно думать, что таким эталоном был этот евангелист. Но как отмечалось, упоминаемое Папием произведение Матфея и обозначенное этим именем каноническое евангелие — произведения разные.
Едва ли можно без новых находок сколько-нибудь исчерпывающе решить эти вопросы. Тем не менее, в одном отношении приводившиеся выше заметки бесспорно продвигают дело. Они еще с одной стороны свидетельствуют, что рассматриваемые редакции канонических евангелий — далеко не первоевангелия, что им предшествовали некие другие произведения, так сказать, пращуры, прототипы нынешних евангелий, которые передали какие-то наследственные черты и факторы последующим рядам, но, разумеется, не тождественны с ними, а весьма отличны.
Евангелие Марка отличается от евангелия Матфея (в их нынешних редакциях), во-первых, по размерам. В первом — 28 глав, во втором — 16. Таково же и соотношение текста: два к трем. Что касается содержания, то, имея в своей основе тот же сюжет и множество сходных и даже идентичных разделов, второе евангелие отличается и рядом особенностей. Так, там совершенно отсутствуют родословие Иисуса, рассказ о его рождении, бегстве в Египет, возвращении, которые в евангелии Матфея занимают две главы. Нет здесь и Нагорной проповеди, этого своеобразного трактата этико-нравственных предписаний христианства, которому в первом евангелии отводятся целые три главы. Не представлен и ряд других более частных сюжетов и разделов.
В целом композиция этого произведения представляется более простой и безыскусной. В то время как первый евангелист, путаясь в противоречиях, стремится доказать, что Иисус в соответствии с ветхозаветными представлениями о мессии есть отпрыск династии царя Давида, а в угоду идеям формирующегося христианства оказывается порождением святого духа (для этого он и строит свою громоздкую генеалогию), автор евангелия Марка обходит эту тему вообще. Ни сюжета непорочного зачатия, ни проблемы земного родителя у него нет. Здесь Иисус фигурирует лишь как «сын Марии», абсолютно неведомый до крещения в Иордане. Лишь с этого времени чудесные знамения — дух в виде голубя и голос с неба — возвещают, кто он таков.
Некий своеобразный колорит можно усмотреть в отношении Марка к чудесам. Элемент магии внутренне присущ всем такого рода волшебным исцелениям. Но если в евангелии Матфея они закамуфлированы более равномерно общей религиозной идеей и несут чисто служебную нагрузку — доказательства мессианства Иисуса, то во втором евангелии при наличии этих же черт их изначальное магическое существо проступает более ярко и самостоятельно: из естества Иисуса источается некая волшебная сила, которая при прикосновении втекает в тело пациента, и тот и другой физически ощущают этот акт (Марк 5:29-30). Слюна Иисуса наделяется магическими целебными качествами, она источает в общем ту же волшебную силу (7:33; 8:22). Новые покровы — спасительность веры, которые привносит сюда евангелист, довольно слабо прикрывают бесспорно дохристианскую основу этих религиозных представлений, широко описанных в этнографической литературе.
С другой стороны, мы и здесь встречаемся со своего рода литературными трафаретами, которые без всяких изменений вставляются автором в ткань совершенно различных рассказов.
В «Церковной истории» Евсевия автором третьего евангелия назван Лука. О нем говорится, что он родом из Антиохии, по профессии врач, общался с Павлом и другими апостолами и написал евангелие[15]. Евсевий приводит цитату из этого произведения, которая совпадает с одной из первых строк нынешней редакции.
Из всего сообщаемого о нем непреложно следует, что даже церковные писатели не причисляют его к разряду очевидцев. Это же вытекает из его вводных слов, где говорится о предпринятом автором «тщательном исследовании всего сначала» (Лука 1:3). Разумеется, этот термин евангелиста не соответствует тому понятию, которое в слово «исследование» вкладывает наука. Речь идет лишь о том, что автор отобрал из имевшихся в его распоряжении материалов такие, которые отвечали определенной общей тенденции, подправленной его личными представлениями, образовательным уровнем, а также его литературным дарованием. Но уже само свидетельство о таком отборе представляет ценность в том отношении, что хорошо очерчивает природу самого евангелия как историко-литературного произведения.
Третье евангелие по объему самое большое. Оно почти в два раза превосходит евангелие от Марка. Целый ряд сюжетов представлен только здесь. Другие даны более пространно, со многими подробностями, отсутствующими у остальных. Наконец, некоторые темы получают здесь другие решения и другую хронологическую последовательность.
Начинается это произведение очень плавно, и в отношении формы и литературной композиции существенно отличается от простоты и известной сухости автора второго евангелия и непоследовательной компоновки первого.
После краткого введения, поясняющего цели и методы автора, Лука, будем условно называть его этим именем, сразу же вводит хронологический ориентир («во дни Ирода, царя Иудейского») и приступает к неторопливому и занимательному повествованию. Рассказ начинается издалека, с бездетности будущих родителей Иоанна Крестителя, их переживаний по этому поводу, появления ангела, возвестившего о чуде рождения будущего ребенка. Автор вводит множество подробностей, не очень идущих к делу, но придающих повести определенную настроенность. Однажды, повествует он, когда Захария «в порядке своей чреды служил перед богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм господень для каждения, а все множество народа молилось вне… тогда…» (1:8, 9). Подробности о порядке каждения у священников, о местоположении ангела и тому подобные сведения не так уж нужны для развития сюжета, но они придают ему занимательность. И автор с непреложностью очевидца замечает, что ангел стоял «по правую сторону» жертвенника, а речь он произнес такую-то. И диалог ангела и Захарии, словно стенографическая запись, приводится тут же. Далее сюжет этот пересекается новым. Оставив на время линию родителей будущего Иоанна Крестителя, Лука направляет того же ангела к деве Марии тоже с предуведомлением о зачатии. Происходит новый диалог, переданный евангелистом в первом же лице. Мария наивно возражает: «Как будет это, когда я мужа не знаю» (1:34). Однако ангел отводит ее сомнения ссылкой на слово бога и на пример бесплодной и престарелой Елисаветы, «которой пошел уже шестой месяц» беременности. После сего Мария отправляется навестить Елисавету «в нагорную страну», где та живет. Чтобы визит этот не показался читателю неуместным, Лука делает своих героинь родственницами. Происходит встреча и, разумеется, диалог, и опять он дается здесь в первом лице, словно Лука непрестанно следовал за своими персонажами и тайно подслушивал их речи. Евангельские матроны «громким голосом» ведут между собой разговор, выдержанный в хорошо подобранной ветхозаветной фразеологии. Затем Мария отбывает, а Елисавета рождает сына. Но и тут автор вызывает интерес читателя новой интригой. Отец новорожденного еще со времени посещения ангела онемел, а мать выбрала младенцу имя, которое противоречит обычным нормам наречения имен, и вместо «Захарии» по родству предлагает назвать его Иоанном. Все это было предрешено на небесах, но народ этого не знал и дивился и знаками спрашивал онемевшего отца. Тот потребовал дощечку и написал «Иоанн». И тотчас немота спала с него, и он исполнился «святого духа» и стал пророчествовать. Тут же вводится текст самого пророчества, составленного сплошь из слов и образов, заимствованных то у ветхозаветных пророков, то из новозаветных посланий апостолов. А между тем «всех живущих вокруг» обуял страх и они раздумывали: кем-то будет младенец сей? Он же тем временем «возрастал и укреплялся духом» (1:80).
Тут Лука заканчивает свою первую новеллу о рождении Иоанна Крестителя, чтобы перейти ко второй, где речь пойдет о другом младенце, родившемся на этот раз у Марии, который тоже «возрастал и укреплялся духом» (2:40) и вокруг которого плетется столь же гладкая и цветистая ткань нового повествования со многими новыми, неизвестными узорами.
Евангелие от Луки — более «литературное» среди других евангелий произведение. Автор придавал немалое значение занимательности и художественности повествования и в глазах своих читателей, вероятно, в этом преуспел. Тем не менее, основная сюжетная линия та же: Иисус, его «слова» и «дела». Обращаясь к отдельным элементам этой главной линии, мы находим здесь, как и в первых двух евангелиях, немало «незаделанных швов», которые нелицеприятно свидетельствуют о широких заимствованиях, сделанных Лукой, и несомненной авторской обработке многих из этих источников. Встречается также немало буквальных повторений фраз и сюжетов. Литературные трафареты, которые мы видели выше, свойственны и этому произведению. Есть здесь немало и внутренних противоречий.
Наряду с этим следует отметить наличие у Луки ряда историко-литературных или хронологических построений, вступающих в существенные противоречия с такого же рода конструкциями и сюжетами у других евангелистов. Одним из них является генеалогическое древо Иисуса. Как уже указывалось, в евангелии Марка такой родословной таблицы нет вообще. В евангелии Матфея автор с нее начинает свое произведение. Нетрудно, однако, заметить, что композиционно родословие здесь чужеродно, ибо оно приводится до рассказа о появлении на свет самого Иисуса (Матф. 1:18). Родословие еще не рожденного и не введенного в повествование персонажа — одно из проявлении своего рода композиционной «угловатости» автора этого произведения. В евангелии Луки, автора, как мы видели, более изощренного, родословное древо, однако тоже неуместно расчленяет единый у других евангелистов рассказ о крещении Иисуса и его искушении в пустыне (3:23-38). Такое положение нельзя, видимо, признать случайностью. Создается впечатление, что потребность в родословии и сами схемы его возникли позднее других евангельских рассказов и органически с ними уже не сплавлялись.
Что касается назначения родословия, то оно достаточно определенно: эта схема должна была примирить и сгладить разноречивость двух тенденций в вопросе о природе Христа. Одна из них, идущая из иудаизма, связывала Иисуса как мессию с домом царя Давида, следовательно, приписывала ему вполне земное происхождение. Но на эти представления в процессе формирования христианства наложились и другие, восходившие к миру так называемых языческих представлений античности. Здесь Иисус фигурировал как сын божий, непорочно зачатый от святого духа (Матф. 1:18). Совмещение этих противоречивых воззрений должно было заключаться в том, чтобы сын божий оказывался в то же время и отпрыском династии царя Давида. Евангелист Матфей решает это так: уводя корни к этой царственной династии, он вершину родословного древа увенчивает Иосифом, который был мужем Марии, земной матери Иисуса. Более изощренный Лука, начиная родословие с замечания, что Иисус был сыном Иосифа лишь в представлении современников, «как думали» (3:23), углубляет генеалогические корни и тянет их через Давида к первочеловеку Адаму и далее к самому богу, поскольку Адам — его порождение. Таким образом создавался синтез земного и небесного, в котором упомянутые выше противоречивые воззрения как будто сливались воедино.
Впрочем, и для раннего христианства существо противоречия — непричастность генеалогического древа Иосифа к самому Иисусу, поскольку тот не был его отцом, — оставалось. И богословие, начиная с самых ранних времен, делало различные усилия для преодоления этого затруднения.
Сопоставляя список имен двух родословий одного и того же Иосифа, читатель с изумлением замечает, что они совершенно несхожи. Приведем начало того другого.
Матфей 1:15
1. Иосиф
2. Иаков
3. Матфан
4. Елеазар
5. Елиуд
6. Ахим
7. Садок
8. Азор
9. Елиаким
10. Авиуд
Лука 3:23-24
1. Иосиф
2. Илия
3. Матфат
4. Леви
5. Мелхий
6. Ионнай
7. Иосиф
8. Маттафий
9. Амос
10. Наум
Продолжение этого перечня не улучшает дела. В одном списке от Иисуса до Давида 28 поколений, в другом — 42, в одном имя известного персонажа библейской истории, Зоровавеля, стоит на 12-м месте, в другом — на 21-м. Всматриваясь более пристально в эти ряды имен, мы узнаем и древнейшие «карьеры», откуда евангелисты брали камень для своих построек. Первые 20 имен списка Луки, от Адама до Авраама, выбраны из генеалогических пластов книги Хроник (I Хрон. 1:1-4, 24-27). Следующий блок из 14 имен от Авраама до Давида извлечен из разных разделов книг Бытие и Руфь (Быт. 21:3; 25:19; 35:23; Руфь 4:18-22; ср. также I Хрон. 2:4-12). Этот ряд имен у Луки и Матфея совпадает. Далее же, как отмечалось, пути их окончательно расходятся и каждый творит свою схему, используя и произвольно препарируя бесчисленные родословия Библии, приноравливая их к своим целям и воззрениям и отсекая не укладывающееся. Разумеется, творческая фантазия авторов в отношении недостающих кусков играла не последнюю роль.
Мы уже отмечали, что противоречия этих генеалогий доставляли хлопоты древним отцам церкви. Намек на это мы находим в послании Павла, где он ополчается против увлечения генеалогическими построениями. Более пространно об этом говорит Юлий Африкан, которого Евсевий называет «немаловажным историком». По словам этого христианского писателя III в., «многие думают», что родословии двух евангелистов противоречивы. Поэтому, писал он, ревностные христиане стараются изобрести какое-нибудь объяснение. Африкан отвергает все такие объяснения своего времени как «натянутые и ошибочные» и взамен предлагает свое собственное.
Исходя из обычая левирата, по которому брат умершего должен взять за себя его жену чтобы сохранить его имя в потомках, Африкан выдвинул совершенно произвольную гипотезу. Он утверждал, что в каждом случае, когда имена в двух списках расходились (а они расходились почти всегда), это означало, что здесь фигурируют братья, один из которых умер, не имея детей. Вследствие этого жена переходила к другому, а рождавшиеся дети нарекались по обычаю левирата детьми умершего, фактически являясь детьми второго. На такой основе, заявляет Африкан, и составились евангельские генеалогии: в одних случаях вели счет по фактическому родству, в других по ле-виратному. Нетрудно понять, что это — чисто умозрительная конструкция, основанная лишь на тезисе «евангелие во всяком случае возвещает истину» и не имеющая за собой никаких исторических доказательств. Последнее отмечал и сам автор, который писал, что «за неимением лучшего» он выдвигает это объяснение, «хотя оно и не подтверждено свидетельствами»[16]. Последние слова Юлия Африкана хочется подчеркнуть особо потому, что в современных богословских сочинениях, оспаривающих противоречивость генеалогий и приводящих в качестве доказательства самую конструкцию Юлия Африкана, эта цитата никогда не приводится.
Сравнивая евангелие от Луки с двумя другими, можно выявить целый ряд больших и малых расхождений. Нагорная проповедь, столь обширная у Матфея и отсутствующая, за исключением некоторых элементов, у Марка, в третьем евангелии предстает в ином виде. Во-первых, она оказывается не «нагорной», поскольку здесь говорится, что Иисус произнес ее «сошед с горы», «на ровном месте» (Лука 6:17). Затем она более чем в три раза короче Матфеевой, и многие существенные притчи и речения Иисуса здесь не фигурируют. Совершенно не упомянута проблема отношения христианства к ветхозаветному закону, которая так занимала первого евангелиста. Нет темы прелюбодеяния и соблазнов, столь любовно обыгрываемой Матфеем. Можно заметить ряд других опущений. Среди них несомненный интерес представляет пропуск Лукой двух слов в двух речениях, которые коренным образом меняют самую их сущность. Сравним эти строки.
Матфей 5:3, 6 | Лука 6:20-21 |
Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо насытятся. | Блаженны нищие[17], ибо ваше есть царствие божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. |
Акцентирование Лукой не духовной и религиозной нищеты и жажды, как ступени приобретения блаженства в божьем царстве, а нищеты в ее прямом смысле необходимо сопоставить с другой сентенцией из этой же проповеди. «Напротив, — говорится там, — горе вам, богатые! Ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете» (6:24-25). Все это придает данному разделу определенную социальную окраску, которой нет в Нагорной проповеди первого евангелиста.
Нелишне отметить, что встречающаяся только в евангелии от Луки притча о богатом и Лазаре построена на таком же противопоставлении и на той же тезе: богатый получает «доброе свое» в земной жизни, поэтому в потустороннем мире его ожидают муки. Нищий же Лазарь, уделом которого в земной жизни оказывались крохи с пиршественного стола богача, благоденствует «в Авраамовом лоне» после своей смерти (16:19-25).
Ограничимся приведенными здесь материалами, которые могут дать читателю некоторое представление о характере первых трех евангелий. Рассматривая их порознь и в совокупности, мы не можем отделаться от впечатления чрезвычайной пестроты построений, идей, поучений, часто исключающих друг друга, но встроенных в единый ансамбль, именуемый евангелиями. Более того, такие черты присущи и отдельному евангелию и даже отдельным разделам и главам каждого евангелия.
Объяснения этому двоякого рода. Во-первых, противоречия самой эпохи формирования первоначального христианства, различия в социальных, религиозно-философских, политических и иных побуждениях и воззрениях первохристиан, которые так или иначе здесь преломились. Во-вторых, сама, так сказать, технология формирования евангелий, сравнительная протяженность времени их становления, многочисленные и не поддающиеся еще в настоящее время обстоятельному учету промежуточные ступени.
Выше отмечалось, что источниками евангелистов были отдельные записи речений, их толкований и сборники сказаний. Им, несомненно, предшествовала устная традиция, изменчивая и легко порождавшая различные версии. Другой ступенью должен был оказаться перевод и письменных версий, и устных сказаний с одного языка — арамейского, на другой — греческий (в котором ныне предстают перед нами евангелия). В процессе формирования евангелий видное место должно было принадлежать и отбору версий, и последующей их обработке. Кроме всего остального, здесь не могли не играть роли и личные качества евангелистов, их образовательный уровень, идейные тенденции, район жительства, художественные вкусы и литературные способности, и многое другое. И наконец, существенной ступенью оказывались последующие редакции, при которых не возбранялось коренным образом менять первоначальный текст или приписывать позднейшие взгляды именитым предшественникам. Все это и лежит в основе тех разночтений и противоречий, которые проступают при внимательном чтении евангелий.
В такой сложной и ответственной проблеме, как вопрос об евангелии, полезно постоянно помнить о различии между истинным, правдоподобным и вероятным, и там, где это нужно, подчеркивать это различие со всей решительностью.
С. А Белов
Представим себе, что перед судьей выступают трое свидетелей. Противоречивые элементы их показаний объясняются сравнительно просто. В случаях коренных расхождений — тем, что они не очевидцы, получили информацию из разных источников или сконструировали ее сами. Более частные и мелкие расхождения до известной степени могут объясняться избирательностью внимания каждого индивида, уровнем его ума, опыта, образования и т. п.
Но как быть, если свидетели вдруг расскажут одно и то же и не только по существу, но и по форме, прибегая к тем же речевым оборотам, образам, метафорам и т. п.? Как оценить такую солидарность? Должна ли она укрепить наше доверие к свидетелям? Неискушенный читатель, пожалуй, ответит утвердительно: единодушие показаний — признак их достоверности. Однако у опытного судьи это сразу вызовет подозрение, ибо в силу той же избирательности внимания и индивидуальных свойств психики каждого, два предельно добросовестных человека не могут об одном и том же явлении рассказать одинаково. Тем пристальнее необходимо всмотреться в произведения, которые, принадлежа разным авторам, тем не менее, построены по одной схеме и содержат разделы, близко или полностью совпадающие между собой.
В нашем случае три евангелиста — Матфей, Марк и Лука наряду с рассмотренными в предыдущей главе важными расхождениями представляют и материалы необычайного сходства. Оно начинается уже в общих чертах плана трех произведений, проступает затем в одинаковой группировке ряда рассказов, хронологии, топографии, наконец, оно поражает текстологическими совпадениями целых отрывков и глав. При этом особенно рельефным становится отличие их от четвертого евангелия, в котором хронология, география событий, философско-религиозные идеи и тому подобное представлены иначе.
Все эти вопросы, вполне отчетливо вставшие еще перед исследователями XVIII в., получили наименование синоптической проблемы. В конечном счете, в этой проблеме, в уяснении причин существенного тождества и во многих разделах сходства между первыми тремя евангелиями и коренного отличия их от четвертого кроется разгадка процессов формирования раннехристианской литературы вообще. Этим и объясняется настойчивость исследователей, снова и снова возвращающихся к рассмотрению этого синоптического сфинкса.
Для иллюстрации здесь можно привести несколько примеров удивительных совпадений.
Такой параллелизм нетрудно подметить в иносказании о посте в брачном чертоге в присутствии жениха: те же образы, одинаковые притчи, та же фразеология (Марк 2:18-22; Матф. 9:14-17; Лука 5:33-38). «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, — говорится в евангелии от Марка, — иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо вливать в мехи новые». Эти же строки приведены и у двух других евангелистов.
Еще более разительным примером текстуального совпадения является раздел, посвященный пророчеству о храме. Содержание его несложно. Один из учеников обращает внимание Иисуса на здание храма. Автор вводит сюда такой эпизод для того, чтобы дать своему персонажу повод произнести пророчество относительно грядущих бедствий, соблазнов и разрушения Иерусалимского храма. Он предостерегает праведников и призывает их страшиться последствий неправедности. Сюжет этот повторяется у всех трех евангелистов в разных главах их произведений. Тем не менее, говорят они об этом совершенно одинаково.
Приведем этот отрывок:
Примеры таких сюжетных и текстуальных совпадений достаточно многочисленны. Их невозможно счесть за простую случайность. Изучение всех трех евангелий позволило исследователям провести некоторую систематизацию. Материалы были определенным образом рассортированы и разложены по «полкам». Таким образом, к одной группе были отнесены тексты, общие для всех трех евангелий. Вторая составилась из материалов, сходных у Марка и Матфея, но отсутствующих у Луки. В третью группу попали параллелизмы у Марка и Луки, отсутствующие у Матфея.
В результате выяснилось, что от евангелия Марка ничего (или почти ничего) не осталось. Оно почти целиком оказалось в составе евангелия Матфея и Луки. Можно, конечно, сказать, что многие разделы произведений Матфея и Луки вошли в состав евангелия Марка. Но, как мы увидим ниже, этот вывод не имеет должных оснований. Еще одна группа составилась из параллельных мест евангелия Матфея и Луки, которых нет у Марка, и, наконец, остались некоторые материалы, встречающиеся только у Матфея или только у Луки.
Намеченная здесь схема, как и всякая схема, в известной мере упрощает многосложность синоптической проблемы. Не все материалы разлеглись по своим отсекам так, чтобы вопрос самой сортировки можно было бы счесть исчерпанным. Все еще сложны проблемы взаимозависимости отдельных текстов и т. п. Таким образом, трудности, встававшие на пути старой плеяды исследователей — «первопроходцев», не могут считаться уже преодоленными.
Тем не менее, систематизация материалов принесла значительные плоды. Она позволила поставить синоптическую проблему на научную основу, выявить определенные закономерности в формировании евангелий как историко-литературных произведений и разрешить ряд существенных вопросов.
Один из них состоит в том, что необычайная согласованность трех евангелий могла произойти лишь на основе определенной литературной взаимосвязи или зависимости. Иначе говоря, кто-то у кого-то заимствовал и общую композицию, и отдельные сюжеты, и целые тексты. Кто же заимствовал у кого? Марк у Матфея или Матфей у Марка? При наличии только трех членов возможны девять перестановок и сочетаний, каждое из которых надо было перебрать и изучить. Однако в нашем случае дело осложняется тем, что каждое из этих произведений неоднослойно, и в недрах своих таит множество более древних литературных, идейных и композиционных связей, источников, редакций. Таким образом, при попытке учета и этих явлений число возможных версий и сочетаний становится поистине астрономическим.
Марк 13:1-6
И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников: Учитель, посмотри, какие камни и какие здания.
Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда он сидел на горе Елеонской, против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков и Иоанн и Андрей: скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться? Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибο многие придут под именем моим и будут говорить: «Это я» и многих прельстят.
Матфей 24:1-5
И вышед Иисус от храма и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма.
Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все-все будет разрушено. Когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?
Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.
Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: «Я — Христос» и многих прельстят.
Лука 21:5-8
И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено.
Π спросили его: Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?
Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение.
Ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я. И это время близко: не ходите вслед их.
Это и объясняет длительность самого поиска: жизни исследователя и даже поколений исследователей не хватает, чтобы перебрать, опробовать и проверить все возможные версии. Вот почему несомненный интерес приобретают предпринимаемые в ряде стран опыты использования для этой цели методов современной кибернетики, которые в дальнейшем, возможно, приведут к существенным выводам. Но и сейчас определились некоторые решения синоптической проблемы, которые, если не считать консервативного богословия, принимаются почти всеми.
Одно из них касается евангелия от Марка. В христианском каноне оно стоит вторым после Матфея. Теперь становится очевидным, что оно древнее дошедшей до нас редакции Матфея и должно быть поставлено на первое место. Это евангелие послужило общей основой плана и двух других, хотя в частностях они то и дело от него отклоняются.
То же относится и к содержанию. Евангелия от Матфея и Луки по содержанию перекрывают Марка и в значительной части текста тождественны ему. Это один из аргументов в пользу того, что Матфей и Лука зависят от Марка. Если бы дело обстояло наоборот, если бы Марк зависел от них, он бы не уклонился от включения в свое произведение таких материалов, как рассказ о детстве Иисуса, его искушении в пустыне и т. д., которые у него отсутствуют, а у других евангелистов есть.
Выше отмечалось, что если рассыпать текст евангелия от Марка на отдельные части и элементы и наложить их на соответствующие разделы двух других евангелий, то от первого произведения почти ничего не останется. Иначе говоря, сюжеты и тексты Марка входят в состав двух других произведений. Если же мы, наоборот, станем извлекать из евангелий Матфея и Луки все то, что содержится у Марка, то там останется сравнительно большое число «неопознанного» текста, каково же его происхождение?
Было замечено, что часть этого материала у двух евангелистов совпадает, и что по содержанию своему совпадающие части почти все состоят из слов и речей Иисуса. Эти и другие наблюдения привели исследователей к фундаментальной гипотезе «двух источников». Сущность ее заключается в том, что в основе евангелий от Матфея и Луки лежит, кроме Марка, еще один крупный источник хотя и не дошедший до нас, но явственно проступающий в текстах двух евангелистов. Это сборник речений Иисуса на греческом языке, перекрывающий соответствующие сюжеты у Марка.
Гипотеза двух источников, которую следует оценить как своего рода опорный камень всей синоптической проблемы, представляет собой существенную часть решения, но не все решение. За ее пределами остается ряд других материалов, встречающихся только у Матфея или только у Луки. Они не вытекают ни из Марка, ни из второго источника (исследователи условно обозначают его знаком Q — Quelle — источник). Следовательно, должны были быть и еще какие-то источники, и некоторые ученые предприняли и предпринимают их поиски.
Другой вопрос касается самого евангелия Марка. В какой мере нынешний его вариант соответствует тому более древнему, который использовали два других евангелиста? Среди ученых еще нет необходимого единодушия. Одни, по преимуществу старые исследователи, проводят между ними резкую грань. Другие, и эта точка зрения представляется предпочтительней, полагают, что древнейший текст Марка, хотя в дальнейшем и претерпел некоторые изменения, существенно отличаться от нынешнего варианта не мог, ибо евангелия Матфея и Луки совпадают именно с нынешним вариантом этого евангелия.
Еще один вопрос, представляющий несомненный интерес, может быть сформулирован так: откуда брал эти материалы сам Марк? Едва ли читатель, внимательно следивший за ходом нашего изложения, усомнится в том, что самые ранние редакции Марка, или так называемый Первомарк, не являются первозаписью. Это вытекает уже из того, что евангелие Марка написано на греческом, а разговорным языком страны, с которой у евангелистов связаны описываемые события, был арамейский. И следы таких арамеизмов исследователи находят в самом греческом евангелии. Следовательно, в творческих кладовых и этого евангелиста имелись более ранние источники и материалы. Попытки их выделения представляют еще большие трудности. Тем не менее, делаются и такие попытки.
Таким образом, в конечном счете, литературные и идейные связи трех первых синоптических евангелий могут быть образно представлены в виде обширной пирамиды, сложенной из большого числа источников, вариантов, редакций. Вершину такой пирамиды составят нынешние греческие евангелия от Луки и Матфея, покоящиеся на Марке, Q, и каких-то других материалах. Основание, уже почти неразличимое под вековыми наносами истории, уходит к устным рассказам на арамейском языке о «речах» и «делах» главного персонажа.
Между этими крайними пластами — пестрые строительные блоки. Некие первозаписи на арамейском, их версии, переводы на греческий, новые вариации, версии, редакции на этом языке — необычайно сложный переплет литературных и иных взаимозависимостей и связей. Знакомство с апокрифическими евангелиями, объявленными церковью «лжеименными» и исторгнутыми из лона Священного писания, позволяют думать, что многие из них своими корнями уходят в недра этой же пирамиды.
«Последний из евангелистов, Иоанн, заметив, что в евангелиях возвещено только о телесном… написал евангелие духовное». Эта заметка христианского писателя II — III вв. Климента Александрийского, сомнительная в части установления авторства четвертого евангелия, в другом отношении представляет известный интерес. Она свидетельствует, что сама раннехристианская церковь обратила внимание на существенное отличие этого произведения от первых трех. Библейская критика нового времени, начиная с главы новотюбингенской школы Ф. X. Баура, подтвердила и конкретизировала сущность этого отличия. Евангелие от Иоанна по многим элементам своей хронологии, топографии, набору мифов, господствующим идеям и т. п. резко расходится с синоптиками. Уже самый пролог с его мистико-назидательным акцентом, упором на «духовность» и обесцвечением «телесного», конкретно-повествовательного элемента не может не приковать к себе внимания. В темных и таинственных «космических» категориях представляет автор своего героя. «В начале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было бог. Оно было вначале у бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (1:1-5). Все это не кто иной, как Христос. И даже там, где вводятся, по-видимому, синоптические (или восходящие к синоптической традиции) рассказы, они перекраиваются и подгоняются под этот «духовный» строй.
Сравнивая четвертое евангелие с первыми тремя, можно заметить между ними ряд существенных расхождений. Так, у синоптиков проповедническая деятельность Иисуса начинается после заточения Иоанна Крестителя (Марк 1:14; Матф. 4:12), у Иоанна — до этого (3:22-24). У синоптиков Иисус приходит в Иерусалим на одну пасху (Матф. 26:2; Марк 14:1; Лука 22:1). У Иоанна — на две (2:13; 13:1) или даже на три (6:4). Эти расхождения более существенны, чем обычные противоречия, встречавшиеся и внутри каждого из синоптических евангелий и между ними. Здесь, в евангелии Иоанна, оказывается, по-видимому, иной хронологический остов. События, которые у синоптиков укладываются в один год, в четвертом евангелии растягиваются на три года. Иными оказываются здесь и географические пределы деятельности Иисуса. Если в трех первых евангелиях это в основном Галилея и лишь в самом конце действие переносится в Иерусалим, то у Иоанна главным местом проповеднической деятельности Иисуса оказываются как раз Иудея и Иерусалим, а Галилея отодвигается на задний план.
Но еще более существенное отличие нетрудно усмотреть в самом строе произведения и его целеустремленности. В отличие от пестрых, разнородных и не всегда идущих в одном русле назидательных повествований синоптиков здесь все довольно крепко сбито вокруг головного идейного стержня — доказательства, что Иисус — бог. «Сие же, — говорит автор четвертого евангелия, — написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, сын божий…» (Иоанн 20:31). Уже первые строки, где он обрисован как надматериальная сущность, божественное Слово, Логос, существующий извечно и дающий начало всему, что «начало быть», коренным образом отличается от простоватости Маркова повествования или сугубо земного родословного древа, с которого начинает свое повествование Матфей.
Не приходится сомневаться, что автор евангелия Иоанна знаком с синоптиками (или их источниками). Нетрудно заметить также, что ряд сюжетов восходит, несомненно, к ним. Но и отбор этих повествований и их обработка подчинены той же центральной идее. Так, автор пренебрег синоптическими родословиями Христа — они ввиду внутренней своей противоречивости не способствуют утверждению идеи, что Иисус — сын божий. Не приводит он и синоптического рассказа о непорочном зачатии девы Марии, столь схожем с так называемыми языческими мифами древнего мира. Для уровня его «духовного» евангелия оказывается достаточной простая констатация, что Логос стал плотью (1:14) без тех живописных «земных» подробностей (и рождаемых ими затруднений), которыми изобилуют рассказы первых трех евангелистов. Рассказ о крещении Иисуса он перерабатывает таким образом, что сам акт крещения исчезает, а остается только небесное знамение, удостоверяющее, что «сей есть сын божий» (1:34). Подобным же образом евангелист пренебрегает синоптическим рассказом об искушении Иисуса, так несовместимым с божественной природой искушаемого. Он опускает и сцены в Гефсиманском саду, где, по синоптическим евангелиям, Иисус в преддверии своей казни «начал ужасаться и тосковать» и, обнаруживая чисто человеческую слабость, стал упрашивать своих учеников посидеть с ним, ибо душа его «скорбит смертельно». «И был пот его, как капли крови, падающие на землю», — замечает Лука (22:40-45; ср. Марк 14:32-3; Матф. 26:36-39). Вместо всего этого четвертый евангелист вкладывает в уста идущего на казнь невозмутимую вероучительную речь, в которой декларируются надмировая природа бога-отца, предвечная сущность самого Иисуса и некоторые черты его учения.
Сходным образом обстоит дело и с идеей Иисуса-мессии. В синоптических евангелиях она выражена недостаточно последовательно. Например, евангелист Марк приводит следующий разговор Иисуса со своими учениками. «За кого, — спрашивает он, — почитают меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же — за Илию; а иные — за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ: ты — Христос. И запретил им, чтобы никому не говорить о нем» (8:27-30; ср. Матф. 16:13-16; Лука 9:18-21). Совсем по-другому эта тема решается в четвертом евангелии. Здесь с самого начала Иисус признается за мессию (1:41) и божьего сына, сверхчеловеческую сущность, признается не только учениками, но и частью народа (4:42), и все евангелие нацелено на утверждение этой идеи.
Четвертое евангелие содержит множество пространных речей, в которых в «монотонно торжественных» (по меткому замечанию одного исследователя) выражениях, бесконечно повторяясь и варьируя, тянется одна и та же тема, выраженная уже в прологе. Иисус есть Логос, его сущность есть сущность бога-отца, видеть его — значит познать того, кто одно и то же, но вместе с тем и не одно и то же.
Другая линия — осознание Иисуса как олицетворения одного из двух начал, господствующих в мире. Он — дух света, добра, правды и противостоит духу зла и тьмы; чтобы спастись, надо верить в первое и отвергать второе. При этом выдвигается требование веры безотчетной, не нуждающейся ни в знамениях, ни в небесных доказательствах. Но тут же не очень последовательно автор побуждает своего Иисуса как раз для утверждения веры творить знамения и чудеса. При этом отбираются наиболее трудные случаи — превращение воды в вино, воскрешение умершего, который уже стал разлагаться, исцеление слепого, который слеп от рождения. Любопытна аргументация причин самого недуга: увидев слепорожденного, ученики Иисуса спрашивают своего учителя: по чьей вине тот слепой — ввиду ли собственных грехов или греховности родителей? Иисус отвечает: ни то, ни другое. Но ему ниспослана слепота, «чтобы на нем явились дела божии» — Иисусово чудо прозрения (9:1-3).
Обозревая четвертое евангелие в целом, можно заметить и большую сравнительно с синоптиками композиционную стройность его и более логично конструируемые вероучительные положения. Исчезли многие внутренние противоречия повествовательного материала синоптиков. Вместе с тем бросается в глаза, что погасли и многие краски, присущие первым трем евангелиям. Неожиданные метафоры, лаконичные сентенции, яркие притчи и сказания, сохранявшие в ряде случаев своеобразие и самобытность фольклора, здесь почти полностью исчезли. Их сменили длинные однотипные речи, которые, подобно «монотонному перезвону колоколов» (выражение Велльгаузена), окрасили произведение в один идеализирующий вероучительно-мистический цвет, знаменуя тем самым, что четвертое евангелие в его последней редакции шагнуло вперед в развитии христианской догматики.
Сравнительная композиционная стройность евангелия от Иоанна не означает, однако, что в нем нет шероховатостей, соединительных швов, по которым исследователи могли бы судить о составе вошедших в него материалов.
Уже отмечалось, что четвертый евангелист опустил синоптические родословия, сказания о рождении Иисуса, вопрос о его отце Иосифе и т. п. и в соответствии со своими догматическими целями представил его сразу в виде Логоса, облеченного в плоть. Однако синоптическая традиция прорвалась в его писании в малозначительной и второстепенной фразе, где Иисус назван сыном Иосифа из Назарета (2:45). В главе третьей говорится, что «после сего» Иисус пришел в Иудею (3:22). Однако при внимательном чтении выясняется, что он уже находится в Иудее со второй главы (2:13), и, следовательно, здесь проходит какой-то соединительный шов. В главе 14-й после очередной речи Иисус говорит своим ученикам: «Встаньте, пойдем отсюда» (14:31). Однако реализацию этого предложения мы находим только в главе 18-й: «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими» (18:1). А между этими двумя фразами оказались вставленными целые три главы, содержащие новые речи. Несколько более поздней вставкой представляется и последняя 21-я глава, поскольку до нее уже есть концовка, венчающая все произведение: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали…» (20:30-31). Позднейшей интерполяцией многие исследователи признают и рассказ о женщине, уличенной в прелюбодеянии (7:53, 8:11), поскольку он не приводится в древнейших списках евангелия (Синайском, Ватиканском кодексах и др.).
Эти и другие наблюдения, сделанные исследователями над содержанием, языком, развитием религиозных идей и т. п. четвертого евангелия, позволили им прийти к некоторым общим заключениям относительно характера и состава произведения. По очень аргументированным оценкам, оно является сочинением некоего неизвестного богослова, отнюдь не «самовидца» событий, не апостола Иоанна и не его ученика. Под влиянием определенных вероучительных идей, имеющих довольно выраженную мистическую окраску, автор переработал и отсортировал материалы первых трех евангелий (или традицию, близкую к синоптической), подчинив их отмеченной выше тенденции. Многочисленные речи Иисуса, столь отличные от синоптических речений, являются конструкцией самого евангелиста, составившего их, может быть, из имевшегося у него материала соответственно своим религиозно-философским воззрениям.
Большой интерес и вместе с тем большие затруднения представляет проблема Логоса в четвертом евангелии. Каковы его истоки? Пришел ли он сюда из религиозно-философской системы Филона Александрийского, где среди разных значений этого понятия останавливает на себе внимание значение его как «единородного божьего сына» и небесного посредника между высшим надмировым божеством и миром низменной материи? Или евангелист синтезировал в своем Логосе некие оттенки этого понятия в каких-то системах гностиков — этих союзников-противников формирующегося христианства — и таким образом стремился ослабить и разложить ряды своих опасных конкурентов? Все эти вопросы так и остаются вопросами. Они лишь свидетельствуют о сложном характере побуждений и причин, породивших четвертое евангелие, и сложности и даже запутанности отношений в самом христианском мире.
Выше отмечалось, что евангелие Иоанна в целом обладает известным единством композиции, литературного стиля, идей. Однако уже упоминавшиеся противоречия, очевидные стыки между разнородными частями свидетельствуют о сложной «биографии» и этого произведения. Более всеобъемлющий анализ, проводившийся разными исследователями, привел их к убеждению, что здесь можно различить, по крайней мере, два главных слоя: древнейшую первооснову, опирающуюся на ранние элементы евангельской традиции, и более поздний (но не чересчур поздний) верхний пласт. Однако единомыслия в определении того, что должно быть отнесено к первому слою, а что ко второму, пока достичь не удается. Если одни за первооснову склонны принять повествования, а речи в основном зачислить во второй слой, то существуют и другие оценки, по которым речи следует аналитически препарировать с целью выделения в них древнейшей традиции.
Как известно, изучение рукописей, найденных в кумранских пещерах, явилось до известной степени поворотным пунктом и в разработке новозаветных проблем. Выявились многочисленные линии довольно глубоких литературных и идейных связей. Некоторые кумранские религиозно-философские воззрения, фразеология, сюжеты были в той или иной форме обнаружены в литературе новозаветной. Степень этого сходства в разных произведениях различна — в Павловых посланиях больше, в других — меньше. Но наиболее значительные параллели оказываются в евангелии и посланиях, приписываемых традицией апостолу Иоанну.
Можно привести целый ряд мест из четвертого евангелия, где сходство с кумранскими представлениями не вызывает сомнения. «… Свет пришел в мир, — говорит евангелист, отражая и кумранскую фразеологию и самую идею дуализма, — но люди более возлюбили тьму… ибо делающий злое ненавидит свет… а поступающий по правде идет к свету» (3:19-21). «… Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма… веруйте в свет, да будете сынами света» (12:35-36). Термин «сыны света» в кумранской литературе выступает как одно из самоназваний членов общины (Устав], 9; III, 24-25 и др.). Здесь, в евангелии Иоанна, он оказывается перенесенным на христиан. Учитель праведности кумранских свитков может быть сопоставлен с Учителем четвертого евангелия (13:13), и это тем более любопытно, что некоторые параллельные линии усматриваются и в самих персонажах. Более гипотетичны, но далеко не безосновательны построения некоторых исследователей, усматривающих в евангелии Иоанна иной календарный строй, чем у синоптиков, и сближающих его с системой кумранитов, стоящей в оппозиции к официальному календарю.
Своеобразие религиозно-философского мышления и ряда других черт евангелия от Иоанна уже давно выдвинуло вопрос о среде, в которой оно возникло. Были предложены различные гипотезы. Одни исследователи находили его наиболее эллинским по духу. Другие отдавали приоритет гностицизму. Третьи выводили его из мандеизма, учения религиозной секты, в котором также проводится противопоставление царства света и тьмы.
Новые материалы побудили многих отклонить прежние гипотезы и искать линии связей и своеобразия четвертого евангелия в мышлении и мировоззрении кумранского круга. Так, например, было высказано предположение, что евангелист составил свой труд для «начинающих быть христианами» из кумранитов-эссенов, рассеявшихся после Иудейской войны по малоазийским и другим пределам империи. Имея в виду такую аудиторию, он и выразил идеи и вероучение христианства в категориях и терминах этих религиозных групп. Вполне очевидно, что в такой форме эта гипотеза страдает одноплановостью. Речь должна идти не об изложении евангелистом готовых христианских истин в понятиях и фразеологии кумранитов, а в непосредственном влиянии мировоззрения этих групп на само формирование вероучительных истин четвертого евангелия.
Дальнейшее изучение всего круга материалов, вероятно, приведет к более глубокой и сложной картине взаимосвязей и влияний. Возможно, обнаружатся новые компоненты или опосредствующие звенья. Возможно также, что среди не опубликованных пока еще кумранских материалов найдутся такие, которые дадут непосредственный ответ на многие не решенные сейчас вопросы. Но само направление поисков, рожденное кумранскими открытиями, представляет несомненный интерес и открывает новые заманчивые горизонты.
Своеобразие религиозных документов состоит в том, что их авторы, говоря о благах воображаемого будущего, не могут отрешиться от современных им отношений, от будничных забот, от актуальных запросов, от своей ближайшей обстановки. Они сами рисуют нам свои собственные портреты, открывают свои сокровенные надежды и страхи.
Ю. Виппер
В новозаветном каноне Деяния апостолов следуют сразу же за четвертым евангелием и по своему содержанию являются как бы их продолжением. Автор описывает здесь события, происходившие после смерти Иисуса, когда ближайшие ученики — апостолы, проводив взором облако, уносившее от земли их воскресшего учителя, должны были самостоятельно возглавить движение своих единомышленников.
Среди многочисленных персонажей, фигурирующих здесь, два апостола, Петр и Павел, занимают центральное место. В определенном отношении книга может быть поделена на две части.
В первых двенадцати главах центральная фигура — Петр. Первая же сконструированная автором этого произведения речь приписывается Петру и следующие — ему же. Другие лица едва упоминаются. Петр проводит «довыборы» апостолов, творит чудеса, вполне сходные с теми, которые в евангелиях закреплены за Христом. Он своей тенью изгоняет болезни, взглядом возвращает здоровье парализованному, воскрешает некую умершую девицу Тавифу и, оказавшись по приказанию Ирода в тюрьме, чудесным образом освобождается от цепей и выходит на свободу.
С этого Момента Петр внезапно исчезает из повествования (лишь еще один раз он мимоходом упоминается в дальнейшем), и с 13-й главы до конца повествование целиком посвящено Павлу, его миссионерской деятельности, путешествиям, проповедям, полемике с инакомыслящими. Заключительный эпизод — столкновение с правоверными иудеями, заточение, суд у наместника, отправка в Рим — занимает последние восемь глав.
Повествование о Павле обрывается так же внезапно, как и рассказ о Петре. И хотя весь смысл путешествия в Рим заключался как раз в том, чтобы предстать перед судом императора, автор Деяний апостолов ничего об этом не говорит и заканчивает книгу бесцветной фразой о двух годах, проведенных Павлом в Риме «на своем иждивении».
По своему характеру Деяния апостолов более всего подходят под тип античного исторического сочинения, и принципы их составления в общем таковы же. При известном единстве структуры и стиля, свидетельствующих об одном авторе, нетрудно заметить разнородность материалов, которыми он пользовался. Хотя книга называется Деяния апостолов, у автора, по-видимому, не оказалось материала для описания всех двенадцати и он повествует только о двоих. Но и здесь бросается в глаза скудость данных, которыми он располагает. Об этом свидетельствует множество повторений, трафаретов и общих фраз. Не приходится сомневаться, что речи, вложенные в уста персонажей, и письма, идущие от их имен, — творчество самого автора.
Предположить, что автор Деяний приводит подлинные речи апостола, невозможно уже потому, что для этого пришлось бы прибегнуть ко множеству невероятных допущений. Например, пришлось бы допустить, что каждая речь тут же дословно записывалась или даже стенографировалась, что каждая из них затем много десятилетий сохранялась у совершенно различных людей, что, несмотря на это, они уцелели и чудодейственно попали в руки одного автора. Едва ли можно представить себе такое стечение обстоятельств, в особенности, когда речь идет о древнем мире. Поэтому исследователи уже давно оценили эти речи как построения самого автора Деяний апостолов, вкладывавшего в уста своих персонажей то, что с его точки зрения подходило к данной ситуации.
Однотипность построения речей и у Петра и у Павла, дублирование целых отрывков при совершенно разных обстоятельствах неоспоримо подтверждают это. Так, в главе 9-й автор рассказывает об обращении Павла в следующих выражениях: «Когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл! Савл! что ты гонишь меня? Он сказал: кто ты, господи? Господь же сказал: я Иисус, которого ты гонишь» (9:3-5). В главе 22-й Павел в своей речи перед народом говорит об этом так: «Когда же был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл! Савл! что ты гонишь меня? Я отвечал: кто ты, господи? Он сказал мне: я Иисус Назарей, которого ты гонишь» (22:6-8). В третий раз этот же рассказ в той же в общем фразеологии вкомпонован в другую речь Павла, произнесенную им уже перед царем Агриппой (26:12-15).
Наряду с этим в Деяниях апостолов содержатся разрозненные крупицы исторических реалий, отображающие подлинные события или отношения. Так, известный интерес представляют сведения относительно общности имущества и уравнительно-потребительских тенденций в первоначальной иерусалимской общине. Автор сообщает, что вступающие в общину продавали свои земли и имущество и «полагали к ногам апостолов» цену проданного. Распределение проводилось «смотря по нужде каждого» (2:44-45; 4:32, 34-37). Для наблюдения за справедливым «раздаянием потребностей» была создана коллегия семи (6:1-7). В Деяниях апостолов нашли отражение и случаи нарушения этих установлений. Примером является рассказ об Анании и Сапфире — муже и жене, которые, вступая в общину, пытались утаить часть «цены проданного» (5:1-11). Рассказ этот, в той форме, как он здесь подан, носит характер назидательной новеллы. Но в основе ее, по-видимому, лежат реальные факты. Небезынтересно отметить, что характеристика имущественных отношений в этом произведении в некоторой мере перекликается с материалами Устава кумранской общины.
Еще более яркое впечатление живого сколка реальных событий производят вкомпонованные в ткань повествования довольно значительные фрагменты какой-то путевой записи, получившей в науке название «мы-отрывки». Своеобразие этих отрывков, как и странное название, данное им, состоит в том, что в ряде глав рассказ о путешествии Павла и его спутников, который ведется автором в третьем лице, внезапно, без какого-либо основания начинает вестись в первом лице. Неоправданность этого перехода хорошо иллюстрируется на следующем примере. «Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, — читаем мы в одной из глав, — они (Павел и его спутники. — М. К.) не были допущены духом святым проповедовать слово в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но дух не допустил их. Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, прося и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию…» (16:6-11). Далее этот рассказ еще некоторое время (до 16:17 включительно) ведется в первом лице, а затем снова переходит на третье лицо. Таких переключений в Деяниях апостолов оказывается четыре. Все они приходятся на путешествие Павла и его спутников. Первый «мы-отрывок» (16:10-17) вкомпонован в рассказ о поездке из Троады в Македонию. Второй (20:5-15) —в повествование о путешествии из Троады в Милет, третий (21:1-18) — в рассказ о плавании из Милета в Иерусалим и, наконец, четвертый (27:1—28:16) — в увлекательную повесть о плавании арестованного Павла из Кесарии в Рим.
Вдумываясь в причины появления «мы-отрывков» в книге, нетрудно прийти к выводу, что это могло произойти лишь в том случае, если автор вставил в свое сочинение неизмененные отрывки какого-то другого произведения (вероятно, чьего-то путевого дневника, где рассказ ведется в первом лице), не позаботившись о приведении вставок в соответствие с характером и грамматическим строем остальных частей.
Такого рода хорошо различимые соединительные швы свидетельствуют о том, что в основе произведения лежат разнородные источники, что оно является до известной степени компиляцией, где материалы подлинные и лишенные исторической достоверности вплетены в общую канву. Это можно заметить и при сравнении некоторых разделов книги. Так, «мы-отрывки» конкретны, лаконичны, насыщены эмоциями. В них легко угадываются свежие и живые впечатления человека, который все это пережил. Рассказ о том, как, «медленно плавая многие дни», корабль пробирался из Кесарии в Сидон, оттуда на Кипр, из Кипра к Криту и т. п., как набежавший бурный ветер эвкролидон «схватил» суденышко и мореплаватели (пассажиры, узники, стража — двести восемьдесят шесть душ) четырнадцать суток носились по Адриатическому морю, как корабельщики, вымеряя глубину, догадались о приближении пологого берега и посадили корабль на песчаную отмель (27:1-41), — все это производит впечатление достоверной истории. Наоборот, рассказ о том, как по приезде в Рим Павел (узник!) созывает знатнейших иудеев, склоняя их к христианству, но по причине «огрубления сердца людей сих» не добивается успеха, обращает на себя внимание расплывчатостью, отсутствием жизненных деталей, тенденциозностью. Это всего лишь авторская конструкция, выражавшая взгляды определенных враждебных иудаизму групп, утверждавших, что ввиду прегрешения иудеев бог отвернулся от них и теперь «спасение божие послано язычникам» (28:17-28).
Вопрос об авторстве книги Деяний и прост и сложен. Прост он, на первый взгляд, потому, что ответ на него как будто дан в самом произведении. «Первую книгу, — говорит автор Деяний, — написал я к тебе, Феофил, о том, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся…» (1:1-2). Но с авторского обращения к Феофилу начинается как раз евангелие Луки. Таким образом, можно полагать, что автор Деяний апостолов, второй книги, посвященной Феофилу, тот же, что и автор первой книги — евангелия от Луки. Об этом до известной степени свидетельствует и анализ грамматического строя, синтаксиса, словоупотребления, предпринятый таким тонким лингвистом, как немецкий исследователь А. Гарнак. Однако если это даже и так (чему имеются и некоторые контраргументы), то далеко ли мы с таким заключением продвинемся по пути знакомства с сочинителем Деяний апостолов? Ведь и относительно автора третьего евангелия у нас чрезвычайно мало достоверных свидетельств. Кроме того, Деяния апостолов, как мы видели, — компилятивное сочинение. В него входят разные материалы. Что мы можем сказать об их авторах?
Таким образом, вопрос об авторстве этой новозаветной книги в значительной степени остается открытым.
Третью часть новозаветной литературы составляют Послания апостолов. Сейчас в каноне содержится 21 послание. Традиция приписала их пяти именам: одно — апостолу Иакову, два — Петру, три — Иоанну, одно — Иуде и четырнадцать — Павлу. Распределение по авторам можно условно рассматривать как первую раннехристианскую попытку классификации этих произведений. Другой такой попыткой нужно считать выделение посланий первых четырех авторов в разряд соборных. Этим подчеркивался их более общий, «вселенский», характер. В отличие от Павловых посланий, обращенных к определенной христианской общине или даже к отдельным личностям, соборные послания адресованы целым провинциям и посвящены общим вероучительным проблемам.
Однако, когда исследователи предприняли более основательное изучение этих вопросов, они сразу же натолкнулись на факты, противоречившие традиционным представлениям.
Послания — специфический вид литературы. Собственно говоря, это письма. На многих из них указано, кому они адресованы и кто их послал. За единичными исключениями это своего рода «открытые письма» — литературный жанр, воспринятый христианством из античности. Такие письма по существу своему являлись небольшими религиозно-назидательными сочинениями, в которых в живой форме личного обращения излагались взгляды автора на те или иные вопросы вероучения и практики раннего христианства. Послания предназначались широкому кругу читателей, и в этом отношении нет принципиальной разницы между соборными и несоборными. Так, например, соборное послание Иакова адресовано «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии»; первое соборное послание Петра — «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии, Вифинии». Но и несоборные послания Павла адресованы большой аудитории: в одном случае — «церквам галатийским» (Галат. 1:2), в другом — «всем святым братьям» (I Фессал. 5:27). Для более широкого ознакомления с ними рекомендуется обмен между церквами. «Когда это послание прочитано будет у вас, — говорится в обращении к колоссянам, — то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы» (Колосс. 4:16). Множество таких письменных увещеваний и поучений, растекавшихся по христианским общинам греко-римского мира, оказывалось очень гибким инструментом для пропаганды определенных вероучительных идей, полемики с инакомыслящими, информации. Разумеется, в век формирования христианства число посланий было гораздо больше, чем сейчас содержится в Новом завете. Многое, несомненно, было утрачено еще в то время, многое отвергнуто при отборе. Тем не менее, и сохранившиеся в каноне представляют большой интерес, поскольку в них так или иначе отразились различные черты эпохи.
Послания апостолов не равноценны между собой ни по своим литературным достоинствам, ни по историческим сведениям, заключенным в них. Рассмотрим два таких произведения.
Одно из них — Первое послание к коринфянам. Это едва ли не самое большое по объему произведение данной группы. Оно чрезвычайно значительно и по своей исторической ценности, поскольку многие стороны жизни раннехристианских общин находят там то или иное отражение. Начинается послание, так же как и другие, с благословения. Апостол Павел и брат Сосфен приветствуют коринфских христиан, призывают на них благодать и мир и после подобающих слов переходят к существу. Первый вопрос, который волнует автора, — это слухи о раздорах. От домашних некоей Хлои ему стало известно, что в коринфской общине происходят распри и разделение. Общество разбилось на множество групп. Одни называют себя приверженцами Павла, другие — Аполлоса, третьи — Кифы, четвертые — Христа. Автор заклинает их вернуться к единству, быть «в одном духе и одних мыслях» (1:10). Опираясь на Ветхий завет, приводя различные вероучительные, логические и другие аргументы, автор послания призывает коринфских христиан оставить зависть, споры, разногласия и «не мудрствовать сверх того, что написано» (4:6). Доводы, уговоры, мольбы перемежаются с угрозами. Он предупреждает их, что придет скоро и от них зависит, с чем ему прийти — с любовью и духом кротости или с жезлом силы и власти (4:19-21).
Второй темой оказываются некоторые этико-нравственные проблемы раннехристианских общин. Послание приводит конкретный случай: некто из коринфских христиан вступил в связь с женой отца. Павел призывает своих подопечных «предать сатане» блудника, чтобы сия «малая закваска» не повлияла дурно на все тесто. Но в связи с этим он рассматривает и некоторые более общие вопросы, в частности проблему контактов христианина с так называемым языческим миром. Для него этот мир полон безнравственности. Блудники, лихоимцы, идолослужители, злоречивые воры, пьяницы, несколько загадочные «хищники» и т. п. определяют лицо нехристианского мира. Тем не менее, Первое послание к коринфянам не призывает к разрыву с ним, ибо, как трезво замечает автор, иначе надлежало бы «выйти из мира сего» (5:10). Но в самой христианской общине никто не должен сообщаться и даже «есть вместе» с нарушителями определенных этических устоев.
Представляет интерес определенная тенденция Первого послания подорвать в глазах христиан юридическую правомочность официального римского суда. «Как смеет кто у вас, — пишет автор, — имея дело с другим, судиться у нечестивых?..» (6:1). Вопрос этот приобретает этико-религиозный аспект. Благочестивые христиане, «святые», предназначены в день решающего суда судить мир. Прилично ли при таких обстоятельствах самим идти на суд нехристиан? Разве в коринфской общине не найдется «ни одного разумного, который мог бы сам рассудить между братьями своими?» (6:5).
Много места отведено в Первом послании к коринфянам вопросам пола, различным отношениям мужа и жены в обществе, менаду собой, некоторым правовым вопросам брака и т. п. Общая посылка автора выражена им в очень лаконичной формуле: «хорошо человеку не касаться женщины» (7:2). Это положение он аргументирует тем, что «образ мира сего проходит», близится время Страшного суда и надо думать о потустороннем. Между тем брачные узы толкают людей к мирскому, и поэтому нежелательны для благочестивого христианина. Однако трезвый ум автора побуждает его не настаивать на этом. Здесь не повеление, а пожелание. Если безбрачные и вдовы не могут воздержаться, пусть вступают в брак, «ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться».
Матримониальная практика ранних христиан тоже порождала ряд проблем, и Первое послание к коринфянам дает некоторые решения. Развод запрещается. Если все-таки женщина разведется — пусть остается безбрачной. Смешанные по вере браки допускаются: не только муж-христианин может иметь неверующую жену, но и жена верующая — мужа-язычника. В личных отношениях муж и жена равны. Они должны оказывать друг другу «должное благорасположение». Но в обществе и вероучении «жене глава — муж», поскольку, аргументирует автор, не муж создан для жены, но жена для мужа (11:9). На этой же ветхозаветной основе покоится предписание женам в церквах молчать, «ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении» (14:34).
В Послании к коринфянам рассматривается и вероучительный вопрос о воскресении, вокруг которого в раннехристианском обществе долго бушевали страсти. Как следует из текста, и в коринфской общине были сомневающиеся. Автор горячо убеждает их. Его аргументации ввиду их богословского характера в целом здесь не представляют интереса. Но некоторые стороны любопытны. Так, отвечая своим оппонентам относительно возможности воскресения из мертвых и облика, в котором те восстанут, он прибегает к образу зерна. Брошенное в землю «голое зерно», воскресая, обретает новое тело. Так и человек (15:36-38). Этот мотив воскресения зерна как основание мифов о воскресающих божествах довольно распространен и в дохристианской «языческой» древности.
Своеобразны строки, где говорится о любви как одном из высших даров духа. Разумеется, раннехристианский автор ставит это в связь с вероучением, с «духом божьим». Однако сами характеристики и оценки вполне земного свойства и являются своего рода обобщением и воспеванием черт человеческой беззаветности. «Любовь, — говорится там, — долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла… все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (13:4-7).
Множество других тем и сюжетов рассеяно в этом послании. Так, в одном месте автор поучает коринфян, чтобы они, собираясь на вечерю для таинства причащения, исполнились сознания священности и божественного смысла этого акта, а не хватали друг у друга пищу и не упивались недостойно вином. «А если кто голоден, пусть ест дома» (11:20-34). В другом месте можно найти упоминание иерархического устройства общин: первыми названы апостолы, вторыми — пророки, третьими — дидаскалы (учителя) (12:28). Еще в одном отрывке содержится наставление, чтобы каждый оставался в том звании, в котором он находился до принятия христианства: если ты был рабом — оставайся рабом; впрочем, если есть возможность освободиться — воспользуйся лучшим (7:20-21), и т. п.
Этому обширному трактату, столь многогранно отразившему жизнь раннехристианской общины, можно противопоставить самое маленькое из канонических посланий — Послание к Филимону. В нем те же элементы — благословение, приветственное заключение и между ними — основные сюжеты послания. Но здесь это лишь один частный и даже личный вопрос. Павел пишет хорошо знакомому и даже чем-то обязанному ему Филимону, христианину, и просит его принять обратно своего беглого раба Онисима. Онисима повстречал Павел, возможно, именно он обратил его в христианство и теперь, возвращая хозяину, просит забыть обиды и принять его в любви. Это послание, разумеется, носит иной характер, чем рассмотренное выше. Но и оно представляет интерес как живое отражение сложного клубка социальных и религиозных отношений раннего христианства.
Остальные послания, также отличаясь друг от друга своими адресатами, источниками, датами написания, ценностью материалов и т. п., в совокупности знакомят нас с широким кругом проблем. Среди них частым оказывается призыв к единомыслию. Со страниц посланий авторы обрушивают на своих адресатов увещевания, смиренные мольбы, угрозы. Они требуют не допускать в общинах споры, зависть, дрязги, своевольное толкование вероучения и т. п. Доводы чисто житейские перемежаются с догматическими. Греховность раздоров и разделения обосновывается множеством вероучительных доказательств и ветхозаветных цитат, и само место, которое этот сюжет занимает в посланиях, хорошо передает его значение.
В непосредственной связи с этим стоит и проблема «лжеучительства». Как известно, формирующееся христианство складывалось из множества мелких и мельчайших течений, ведших между собой, по образному выражению Энгельса, чисто «Дарвинову» борьбу за существование. Ареной схваток обычно являлись различные вероучительные тонкости (за которыми нередко стояли более значительные обстоятельства), и лжеучениями каждая сторона называла учение своих соперников, которые так или иначе проникали к ним. «О, если бы удалены были возмущающие вас!» —восклицает автор Послания к «несмысленным» галатам, которые от «истинного» Павлова учения перешли на стезю «иного благовествования» (5:12). «Многие обольстители вошли в мир…» —предупреждает другое послание и призывает не принимать таких в дом и не приветствовать их (II Иоанн 7:10). «Не всякому духу верьте, — говорит автор Первого послания Иоанна, — … потому что много лжепророков появилось в мире». И далее даются советы, как отличить истинного пророка от ложного. По этим советам нетрудно увидеть, против кого выступает автор: его стрелы направлены против некоторых направлений гностицизма, отрицавших воплощение бога в человеке (4:1-3).
Нередко послания отражают и живые детали борьбы против «лжеучителей». Иногда приводятся их имена или существо учений. Так, в Послании к колоссянам, по-видимому, имеются в виду некие иные, чем упоминавшиеся выше, обольстители. «Смотрите, братия, — говорится там, — чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира…» (2:8).
Любопытно отрицательное отношение к дискуссиям по вопросам вероучения и Священного писания. Автор Второго послания к Тимофею предлагает «не вступать в словопрения», поскольку это не приносит пользы, а ведет лишь к «расстройству слушающих» (2:14). В этой связи большой интерес представляет заметка, отразившая, видимо, споры о противоречащих друг другу евангельских родословиях Христа. Павел, от имени которого идет послание, порицает такие дискуссии. Он просит своего адресата «увещевать некоторых», чтобы они «не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели божие назидание в вере» (I Тимоф. 1:4).
Другой сюжет — отношение христианских общин к римской власти. Авторы Посланий апостолов стремятся удержать своих приверженцев от конфликтов с ней. «Будьте, — возглашается там, — покорны всякому человеческому начальству… царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым» (I Петр. 2:13-14).
Такая позиция обосновывается самим вероучением: существующие власти установлены от бога, и нет у них иного происхождения. Поэтому сопротивление властям противно самому всевышнему. Другой аргумент — житейская целесообразность. Начальствующие призваны пресекать зло. Тем самым они полезны для добра, они в этом божьи слуги, и им следует повиноваться не только из страха, но и по совести. Поэтому послание призывает отдавать каждому должное: «кому пόдать — пόдать, кому оброк — оброк…» И если хочешь не бояться власти, делай добро и получишь от нее похвалу (Римл. 13:1-7). Дополнительным штрихом являются слова устрашения. Не только меч земного правосудия, но и божье наказание в день Страшного суда ожидают тех беззаконников, которые «презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» (II Петр. 2:10). В известной степени уже здесь оказываются начала той политической линии, следуя которой впоследствии церковь пришла к союзу с Римским государством.
Другой проблемой, отразившейся в этих произведениях, была проблема рабства. Авторы посланий не могли, разумеется, обойти это болезнетворное явление эпохи, поскольку, с одной стороны, рабы, ставшие христианами, оказывались во владении господ-язычников, а с другой — сами христиане порой владели рабами-единоверцами. Вот почему послания неоднократно возвращаются к этой проблеме. Выход усматривается в примирении. «Господа, — говорится в одном призыве, — оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете господа на небесах» (Колосс. 4:1). Сама эта мысль в сущности не была новой. Необходимость более мягкого отношения к рабам осознали многие идеологи рабовладения, и в этом отношении авторы посланий только восприняли идеи своего века. Вместе с тем требование справедливого отношения к рабам уравновешивается призывом, обращенным к рабам-христианам, беспрекословно повиноваться господам. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу» (Ефес. 6:5). Это повиновение должно носить не формальный характер, не быть видимой услужливостью: все, что они делают, они должны делать от души, памятуя, что они получат за это от бога (Колосс. 3:23).
Можно думать, что, отражая попытки установления более свободных отношений в среде единоверцев, автор Послания к Тимофею делает необходимые разъяснения. Повторив тезис о почитании рабами своих господ, он отмечает, что в тех случаях, когда господами оказываются христиане, их рабы-единоверцы не должны обращаться с ними небрежно, «потому что они братья». Наоборот, именно поэтому они должны служить еще более ревностно. И, ополчаясь против других тенденций, автор замечает: «Учи сему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка» (I Тимоф. 6:1-5).
Таковы некоторые мирские сюжеты Посланий апостолов. Остается добавить, что все они облачены религиозной фразеологией и вкомпонованы в разделы, разрабатывающие вопросы христианского вероучения. Однако, будучи извлечены из этих вероучительных покровов, они дают живое представление о многих проблемах эпохи формирования христианства.
Вопрос об авторстве посланий не менее сложен, чем вопрос об авторстве других новозаветных произведений. Традиционные представления давно отвергнуты критикой. Четырнадцать произведений, которые в каноне приписываются Павлу, в действительности в большей своей части ему не принадлежат. В этом отношении исследователи довольно единодушны. Меньше единодушия в вопросе о выделении из сборника собственно Павловых посланий. Новотюбингенская школа на основе скрупулезного историко-лингвистического анализа сочла возможным оставить за Павлом лишь четыре — Послание к римлянам, Первое и Второе послания к коринфянам и Послание к галатам. Ряд более поздних исследователей — и эта точка зрения получила значительное распространение — готовы связать с именем Павла семь посланий (римлянам, коринфянам, Первое и Второе галатам, Послание филиппийцам, фессалоникийцам и Первое послание Филимону). Были высказаны и некоторые другие предположения.
С другой стороны, нельзя упускать из виду, что редакции посланий, вошедших в канон, прошли ранее через ряд неизвестных нам рук, которые, несомненно, правили и даже пересоставляли текст. Следы этого можно найти в Послании к римлянам. Так, из первой главы следует, что автор в Риме не был. Он многократно намеревался это сделать, однако и «доныне» обстоятельства мешают ему (Римл. 1:10-13). Тем не менее, в последней главе представлен длиннейший список лиц, которым он передает приветы, как будто уже ранее в Риме бывал и установил с ними знакомство. Это наталкивает на мысль, что некий составитель присоединил к данному посланию приветствия из какого-то другого обращения. При внимательном чтении Второго послания к коринфянам нельзя не заметить, как дружественный вначале дух Поучения, с беспрестанными изъявлениями любви к коринфянам, в последних главах неожиданно меняется. Автор вдруг начинает резко и саркастически упрекать своих подопечных. Он чем-то крайне раздражен и обижен и выставляет им на вид, что больше, чем кто-либо другой, претерпел, служа христианству, — голодал, сносил побои, тонул, подвергался бесконечным опасностям, терпел обиды. Приходя к ним, не пользовался их иждивением, хотя имел на это право, а жил на свое. Он упрекает их в том, что своим невниманием и нелюбовью они вынудили его похваляться заслугами, и его строгий тон вызван стремлением побудить их одуматься, чтобы, когда он придет к ним, ему не пришлось употреблять строгость и власть на деле (II Коринф. 10-13).
Все это побудило исследователей предположить, что в данном одном послании механически соединены два, написанные, возможно, тем же автором и тому же адресату, но по различным поводам.
Эти примеры показывают пути исследования посланий и характер самих произведений. На основе их внутреннего анализа исследователи строят свои гипотезы об их составе и авторстве. Вопросы эти еще далеки от исчерпывающего решения. Но бесспорно, что путь, по которому идет поиск, в целом верен, и что эти произведения не столь одноименны и односложны по составу, как представляли себе в прошлом.
Апокалипсис (или Откровение Иоанна) замыкает длинный ряд рассмотренных здесь книг. Это — последнее, 27-е произведение Нового завета. И хотя некоторые апокалиптические сюжеты можно встретить и в евангелиях и в посланиях, в целом это сочинение коренным образом отличается от всего рассмотренного.
Это различие и в языке, и в образах определяется самой спецификой произведения: апокалипсис — пророчество. Некто, именующий себя Иоанном, записал, «чему надлежит быть вскоре». А узнал он об этом в видении, явившемся ему, когда он «был в духе» (1:10), т. е. в состоянии психического перевозбуждения и экстаза.
Центральной идеей, владевшей автором, было сознание, что «время близко» (1:3), что подоспели сроки Страшного божьего суда и мировые катаклизмы вот-вот обрушатся на греховное человечество. Их описанию в устрашающих, граничащих с бредом образах и посвящена книга. Исключение составляют лишь две главы, в которые входят послания семи раннехристианским общинам. Общины эти расположены в городах римской провинции Азии — Эфесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардах, Филадельфии, Лаодикее. Послания к ним, введенные в Апокалипсис, отличаются от рассмотренных выше не только их чрезвычайной краткостью (всего 5-6 строк), но и бедностью содержания. Это в большинстве общие места и довольно стертые назидания, в которых мало подлинно живых тканей. «И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, который был мертв и се жив: знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем, ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но — сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (2:8-11). Трудно сказать, в какой мере те отдельные нюансы, которые отличают одно из этих посланий от другого, действительно отражают конкретные проблемы данной общины, а не являются схематическим выражением общих положений.
Во всяком случае, в контексте данной книги послания воспринимаются как определенная авторская конструкция, подготавливающая читателя к восприятию апокалиптических картин.
Сами эти картины поражают вычурностью видений автора и тяжеловесностью приводимых там аллегорий. Его бог как будто человекоподобен во всем — от физического строения (руки, ноги, голова) до одежды, — он облачен в царские одеяния, препоясан золотым поясом. Однако этому изображению приданы фантасмагорические атрибуты. Голова его и волосы белы, как снег, глаза горячи, как «огненный пламень», ноги подобны расплавленной меди; из уст выходит обоюдоострый меч; в руке он держит семь звезд, а лицо — «как солнце, сияющее в силе своей» (1:12-20).
Другие его откровения полны столь же чудовищных и болезненно-странных образов. Престол со стеклянным морем впереди; животные, имеющие «вокруг» крылья, а «внутри» очи; небо, свертывающееся, как свиток; агнец с семью рогами и семью очами; ангелы, держащие ветры; жена, одетая в солнце; саранча с клыками львов и волосами женщин; красный дракон, хвостом сбивающий звезды, — этот пестрый набор пророческого реквизита Апокалипсиса хорошо передает фанатизм и психологическую настроенность определенных слоев ранних христиан. Такие образы и видения, аллегорически интерпретированные, подводили к одной из важнейших идей первоначального христианства — идее непосредственной близости «конца света».
Что касается отдельных картин, то определенная скудость красок и коллизий, иррациональность и однонаправленность делает их неблагодарным материалом для пересказа. Вот, повествует автор Апокалипсиса, открылась дверь на небо, и там престол, а на нем сидящий бог, своим видом подобный драгоценным камням яспису и сардису. Перед ним четыре животных, подобных льву, быку, человеку и орлу. Вокруг 24 других престола с 24 старцами в белых одеждах и золотых венках. «Молнии, громы и гласы» дополняют и углубляют картину. Круглые сутки каждое из этих четырех животных, которые имеют «по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей», не зная покоя, взывают: «Свят, свят, свят…» И как только они это произносят. 24 старца в белых одеждах тотчас падают пред сидящим ниц и, срывая с глав золотые венки, в свою очередь твердят: «Достоин ты, господи, принять славу…» (4:1-11).
Или другая картина: семь ангелов выливают семь чаш гнева божия. Первый вылил на землю — и созрели на людях отвратительные гнойные раны. Второй вылил в море — и наполнилось море кровью «как бы мертвеца», и все умерло. Третий вылил в реки и источники — и там «сделалась кровь», которую пришлось пить людям, и т. п. (16:1-21). Авторская палитра и здесь не блещет разнообразием. Вот Иоанн, вознесенный «в духе» на «великую и высокую» гору, обозревает пристанище праведников — утопическое идеальное царство, «небесный Иерусалим». Что же он там видит? Город тянется (по стороне квадрата) на тысячу раз по 12 стадий[18]. В нем 12 ворот, на которых 12 ангелов и 12 надписей колен Израилевых. Стена города имеет в высоту 12 раз по 12 локтей и сложена на 12 основаниях, на которых имена 12 апостолов. Первое основание стены — из ясписа, второе — из сапфира, третье — из халкидона и т. п., а в целом город — «чистое золото, подобен чистому стеклу» (21:10-21). Современному читателю фантазия провидца Иоанна едва ли покажется сколько-нибудь красочной и богатой.
Впрочем, было бы неправомерно всю «ответственность» перекладывать на этого автора. Тот тип раннехристианской литературы, который представлен новозаветным Апокалипсисом, не возник на пустом месте. Его корни уходят к иудейской пророческой литературе, и книга ветхозаветного пророка Даниила оказывается его наиболее прямым предшественником. Таинственные, устрашающие образы, аллегорически предрекающие будущее, сакральные числа (7:12 и др.) и их производные, сложная символика действ фигурирующих там персонажей — все это не является продуктом полного произвола автора, но восходит к иудейским, вавилонским и другим представлениям и мифам, в ряде случаев приобретшим к этому времени характер устоявшихся трафаретов. Таким исходным материалом автор Апокалипсиса пренебречь, разумеется, не мог, и он широко пользуется им, подгоняя к своим целям и идеям.
В главе 12-й рассказывается о небесной жене, «облаченной в солнце», которая собирается родить младенца, предназначенного «пасти все народы». Однако большой дракон — олицетворение злого начала в мире — тут как тут и ждет момента, чтобы сожрать младенца. Тогда жена бежит на землю. Дракон преследует ее. Ей даются два орлиных крыла, чтобы, спасаясь, она летела в пустыню и там жила в продолжение «времени, времен и полвремени». Дракон в ответ пускает из пасти «воду, как реку», чтобы вода утащила ее. Тут вступает в борьбу земля, разверзает «уста земли» и поглощает драконову реку. Тогда этот рассвирепевший древний змий отправляется на брань «с прочими от семени» своей противницы (12:1-17). Можно ли сыскать на земле народ, в мифотворчестве которого не оказалось бы подобных мотивов противоборства добрых и злых сил? Автор Апокалипсиса, естественно, воспользовался вариантом, сложившимся на Древнем Востоке, вработав в него свои идеи: семя небесной жены, против которого выступает дракон, — это последователи Христа.
В Апокалипсисе можно найти и некоторые иносказания, представляющие собой определенную зашифровку каких-то исторических событий или обстоятельств. Так, в одной из глав выводится некая великая блудница, облаченная в порфиру и жемчуга. В руке у нее золотая чаша, наполненная нечистотами ее блудодейства. Она сидит на семиголовом звере и упивается кровью святых праведников, а на челе у нее выведена надпись «Великий Вавилон» — ветхозаветный образ безмерной и преступной греховности. Далее идут различные предречения насчет «тайны жены» и «тайны зверя», а затем фраза, призывающая вдуматься в истинный смысл сказанного. «Здесь ум, имеющий мудрость», — говорит автор и приступает к частичной дешифровке. Семь голов зверя, поясняет он, суть семь гор, на которых сидит блудница, а она сама лишь метафорическое обозначение великого города, «царствующего над земными царями» (17:1-18). И хотя город не назван и продолжает завуалированно именоваться Вавилоном, современный Апокалипсису читатель, знакомый с ветхозаветной символикой и знавший хрестоматийную истину, что Рим расположен на семи холмах, без труда узнавал, какую блудницу имел в виду автор.
В другом месте семиголовый зверь ставится в некие отношения с подчиненным ему двурогим зверем. Приводятся какие-то сроки, предречения, упоминается рана зверя, война (или борьба). В текст вплетается сентенция насчет того, что кто мечом убивает, от меча и сам будет убит, а кто уводит в плен, будет и сам пленен. Во всем этом, несомненно, скрываются какие-то исторические реалии, но для нас они в настоящее время не всегда ясны. Наконец, завершая всю эту сценку, автор опять призывает к чтению между строк. «Здесь, — замечает он, — мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое: число его 666» (13:1-18).
Следует заметить, что стремление расшифровать иносказания Апокалипсиса Иоанна и найти за ними реальные исторические события издавна владело исследователями. Наиболее интересное построение дал в свое время профессор Берлинского университета Фердинанд Бенари, усмотревший в некоторой части произведения отражение эпохи императора Нерона. Фридрих Энгельс, познакомившийся с этой точкой зрения из университетского курса, читанного Бенари в 1841 г., положительно отнесся к его наблюдениям и обратился к ним в своей статье «Книга откровения».
Присматриваясь к иносказаниям Апокалипсиса, мы можем заметить резко враждебное отношение его автора к «вавилонской блуднице» — державному Риму, «напоившему» царей и народы «яростным вином блудодеяния». Он предсказывает ему неизбежную и близкую гибель и предоставляет своему воображению упиваться картинами грядущих казней. «Воздайте ей, — говорит он устами бога, — так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее» (18:6). Бессильная ярость всего бесправного и оппозиционного против «нивелирующего рубанка» римской государственной машины до некоторой степени отобразилась в апокалиптических писаниях, предрекающих Риму близкую смерть, голод, огонь, запустение. Уместно лишь добавить, что осуществление всего этого автор книги целиком перелагает на небесные силы.
Апокалипсис Иоанна далеко не единственное произведение этого рода, предсказывавшее близкую гибель рабовладельческому Риму. Среди других, имевших значительное распространение, наибольшую популярность приобрели так называемые сивиллины пророчества. Под этим названием ходили разнородные по своему происхождению и составу произведения, рождавшиеся в греческой, римской, еврейской среде. Творцы их неизвестны. Во многих случаях это — народное творчество. Но приписывались они древнегреческим прорицательницам — сивиллам.
В сивиллиных пророчествах последних веков до новой эры и первых веков христианства большое место занимают апокалиптические мотивы. На власти и империи мстительно призывается божий суд, старым общественным устоям предрекаются ниспровержение и гибель, и на их развалинах воображение этих безвестных авторов рисует упоительные мессианские картины царства социальной справедливости, мира, изобилия. Здесь определенное идейное родство с Откровением Иоанна — жажда мировых катаклизмов как инструмента социального возмездия, мессианизм и др. — дает некоторое основание полагать, что среди источников Апокалипсиса сивиллины пророчества должны были занимать известное место.
Как и в отношении других новозаветных произведений, вопрос о том, кто написал Апокалипсис, в настоящее время не может считаться решенным. Сами раннехристианские церковные писатели высказывали по этому поводу противоположные суждения. Например, александрийский епископ Дионисий во второй половине III в. замечает следующее: «… что это писание принадлежит Иоанну, не спорю. Согласен и в том, что оно есть произведение какого-то святого и богодухновенного мужа; но не легко допустить, что этот муж именно апостол, сын Зеведея, брат Иакова — тот самый, которому принадлежат евангелие, надписанное — «От Иоанна», и соборное послание. Из духа того и другого, из образа речи и из так называемого хода мыслей я заключаю, что писатель их не один и тот же»[19].
Необходимо также иметь в виду, что исследователи Апокалипсиса, отдавая должное известной композиционной стройности произведения, все же далеко не единодушны в вопросе о его составе и предполагают переделки или вставки, сделанные в разное время. Разумеется, решить вопрос о том, кому они принадлежат, не представляется возможным.
Здесь уместно коснуться еще двух вопросов. Один из них — проблема хронологии новозаветных произведений. В данной работе едва ли возможно рассмотреть это сколько-нибудь подробно. Причиной является не только слишком специальный характер такого очерка, но и необычайный разнобой в оценках, создающий непреодолимые затруднения при выборе между ними. Несколько примеров хорошо проиллюстрируют сложившееся здесь положение.
Известный немецкий исследователь В. Вреде самым ранним из новозаветных произведений считал Первое послание к фессалоникийцам и датировал его 54 г. н. э. А профессор Утрехтского университета в Голландии Г. А. Ванденберг ван Эйсинга относит его ко времени между 125-140 гг. Так называемые пастырские послания Вреде относит к началу II в., а ван Эйсинга — ближе к середине II в.; Послание к евреям первый датирует 85-95 гг., второй — около 130 г. и т. п.
Время появления Деяний апостолов также оценивается очень различно. Немецкий ученый А. Гарнак относит это произведение к 60-м годам I в. Французский профессор А. Луази, который различает здесь две редакции, датирует первую около 80 г., а вторую — 120-140 гг. Английский исследователь-марксист А. Робертсон колеблется между двумя оценками — временем «несколько позже» 70 г. и началом II в. Советский историк христианства С. И. Ковалев определяет время написания этой книги второй половиной II в.
Разнообразны и датировки Апокалипсиса. Ванденберг ван Эйсинга относит его к 140 г., советский исследователь Я. А. Ленцман — к 68-69 гг., А. Робертсон — к 93-95 гг., и т. п.
Такие же расхождения и в датировке евангелий. Р. Ю. Виппер датирует их возникновение серединой или второй половиной II в., Я. А. Ленцман — первой половиной II в., А. Робертсон выделяет некое, не дошедшее до нас первоевангелие и датирует его 70 г., а возникшие на его основе нынешние евангелия относит к различным датам, начиная после 70-х годов до середины II в.
Нет единомыслия и в отношении написания нынешних евангелий. Так, диапазон расхождений в датировках евангелия от Луки составляет более чем столетие: от 54-56 гг.— по датировке Бласса, до 70-х годов II в.— по оценке Виппера. Между этими крайними границами частокол более умеренных гипотез. Вот их перечень, составленный А. Рановичем. Гарнак вначале датировал евангелие от Луки 80 г., позднее — 64 г. Батифоль, Годе, Ган и другие остановились на 65-70 гг., Вейс, Райт, Цан — на 70-80 гг., Юлихер и многие другие выдвинули дату — 80-100 гг.; Луази, Кейм, Кнопф, Вернде — 90-100 гг.; Гильгенфельд, Гольцман, Шмидель — 100-110 гг.; Ванденберг ван Эйсинга — первую половину Ив., Ф. X. Баур — 130 г. Евангелие Иоанна А. Ревиль датирует 130-140 гг., А. Делафос, различающий в нем три редакции, последнюю относит к 170-175 гг., В. Вреде — к началу II в. и т. п.
Сходным образом обстоит дело и с относительной хронологией. Общепринятым в настоящее время является лишь признание евангелия Марка древнейшим среди канонических евангелий. Причисление четырех Павловых посланий (римлянам, I и II коринфянам, галатам) к разряду древнейших в этой группе разделяется многими, но не всеми. Схемы хронологического размещения произведений относительно друг друга также разнообразны и носят характер лишь общих гипотез. Положение усугубляется и тем, что ввиду неоднослойности многих новозаветных произведений различные их пласты могут восходить к разным ступеням этих хронологических схем.
Для иллюстрации сравним две такие хронологические цепи, составленные двумя современными авторами — советским ученым С. И. Ковалевым и английским исследователем А. Робертсоном. По схеме, принимаемой С. И. Ковалевым, первым в хронологическом ряду идет Апокалипсис, затем ранние послания Павла (к которым он относит четыре вышеупомянутых). За ними «средние» и поздние послания Павла и, наконец, завершая структуру относительной хронологии новозаветных произведений, следуют самые поздние из них — четыре евангелия, Деяния апостолов и некоторые соборные послания.
Совсем иной ряд дает А. Робертсон. У него первыми оказываются некоторые из Павловых посланий, причем совсем не те, которые мы называли выше. Здесь наиболее ранними признаны Первое послание к фессалоникийцам, Послание к Филимону и некоторые части Первого послания к коринфянам. К ним в плане хронологическом автор присоединяет «мы-отрывки» из Деяний апостолов. Следующим звеном оказывается Апокалипсис, но лишь в той его части, которая имеет отношение ко времени Иудейской войны. Сюда же он переносит и Второе послание к фессалоникийцам. Затем помещается выделяемое им утраченное первоевангелие, за ним нынешние евангелия. А между этими двумя звеньями — позднейшие части Апокалипсиса, Деяний и Посланий апостолов.
Причины такого обилия разноречивых гипотез по вопросам хронологии объясняются в первую очередь скудостью прямых свидетельств. Древние не оставили нам сколько-нибудь достоверных данных на этот счет. При таких обстоятельствах средством для датировок этих произведений оказываются они сами. Между тем извлечение из них таких материалов является делом необычайно сложным, поскольку известных исторических ориентиров там мало, а глухие и темные образы и сюжеты, в которых они так или иначе отложились, открывают широкие возможности для противоположных оценок.
Таким образом, установление прочной хронологии новозаветных произведений — дело будущего. Более тонкие приемы анализа их состава, языка, стиля, грамматического строя, трансформации идей и т. п., введение некоторых приемов машинных оценок, принятых в кибернетике, наконец, новые открытия в библейских странах, которые непрестанно, прямо или косвенно, пополняют наши сведения, со временем принесут свои плоды. Пока же приходится в сфере хронологии довольствоваться гипотезами. Впрочем, два исторических ориентира несколько помогают делу. Один из них — восстание Иудеи 66-70 гг., кульминацией которого явилось разрушение Иерусалимского храма. Накал политических и социальных страстей, достигший своего апогея религиозный фанатизм в ходе борьбы и страшный шок, вызванный гибелью святыни, так или иначе должны были отразиться в раннехристианской литературе того времени и в известной степени явиться стимулом разработки некоторых сюжетов (например, темы правоты христиан и греховности иудеев или предречение гибели тем, кто был повинен в этой катастрофе). Поэтому дата разрушения Иерусалимского храма стала для многих исследователей вехой, на которую оглядываются при оценке времени написания отдельных произведений. В зависимости от того, усматриваются в них или нет отзвуки этих событий, их датируют временем до или после 70 г. Правда, путь этот еще далек от совершенства, потому что вычурные, иносказательные выражения, в которых предполагают эти отзвуки, открывают возможности для разных толкований.
Другим ориентиром является фрагмент папируса из Египта, приобретенный еще в 20-е годы нашего века, но долго остававшийся в безвестности. Этот папирус Райлендса содержит отрывки — всего несколько строк — из 18-й главы евангелия Иоанна. Сейчас это самый ранний список новозаветных произведений. Он датируется 20-30-ми годами II в. Тем самым дата самого написания евангелия Иоанна должна быть отодвинута назад, поскольку между оригиналом и последующими копиями не могло не пройти какое-то время. С другой стороны, евангелие Иоанна, по свидетельству раннехристианских писателей, написано позже остальных трех. Они называют его «последним из евангелистов»[20]. Тем самым время составления синоптических евангелий должно быть еще более отодвинуто вглубь. И, таким образом, этот маленький обрывок древнего папируса оказывается могучим разрушителем большого числа гипотез, относивших составление нынешних евангелий к чересчур позднему времени.
Как мы видели, рассмотренные выше новозаветные произведения составлялись порознь различными людьми и в разное время. Они не были изначально объединены в тот единый сборник из 27 книг, который существует сейчас. Более того, само это число совершенно случайно, поскольку в среде ранних христиан обращалось бесчисленное множество аналогичных произведений — евангелий, деяний, посланий, апокалипсисов. Известны евангелия от египтян, евангелие от евреев, евангелия Петра, Филиппа, Фомы, Иакова, Никодима, Варнавы, Иуды. В ходу были деяния Павла, Петра, Иоанна, Фомы, Андрея, Филиппа. Имелся ряд посланий сверх известных. Например, Павлово послание лаодикийцам, Послание к александрийцам, Третье послание к коринфянам и др. Кроме Апокалипсиса Иоанна, известны еще Апокалипсис Петра, Откровение Павла, Пастырь Гермы.
История отбора из этой массы 27 новозаветных произведений — Священного писания и противопоставление его остальным, теперь объявленным апокрифическими, подложными (или в отдельных случаях «только» несвященными), весьма поучительна. Она, как в призме, преломила историю распрей и ожесточенной борьбы, раздиравшей самую раннехристианскую церковь.
Нет возможности установить какой-то хронологический рубеж, с которого начинается этот отбор «правильных» произведений — становление канона. Но первые контуры его уже намечаются в середине II в. у крупного деятеля церкви, а затем еретика Маркиона. У него отобранными оказываются 11 книг: евангелие Луки (иной, чем нынешняя, редакции) и 10 посланий Павла. Из Павловых посланий Маркион не принял Первое и Второе послания к Тимофею, Послание к Титу. Нет здесь и Послания к евреям. В 30-х годах XVIII в. итальянский ученый Муратори нашел в одной из миланских библиотек (в старой рукописи VIII в.) перечень произведений, отнесенных к разряду священных. Он датируется концом II в. и является первым непосредственным свидетельством такого рода.
Список этот, получивший наименование фрагмента Муратори, содержал уже 23 названия. Сюда входят все четыре евангелия, Деяния апостолов, 13 посланий Павла. Из этих посланий (приведенных здесь в иной последовательности, чем в нынешнем Новом завете) шесть, однако, оказываются не бесспорными. Это —Второе послание к коринфянам и Второе фессалоникийцам. Они оцениваются как повторные и вводятся в список не без колебания. Четыре других — Первое и Второе послания к Тимофею, Послания к Титу и Филимону — принимаются лишь «из любви к Павлу». Еще три послания — одно Иуды и два Иоанна — идут с оговорками. Кроме того, принятыми оказываются целых два апокалипсиса — Иоанна и Петра. Таким образом, безоговорочными для церкви в это время было лишь 14 произведений, хотя и в отношении апокалипсисов говорится, что чтение их «встречает затруднения» в церкви.
В сочинениях раннехристианских писателей этого и последующего времени наблюдаются свои варианты и оценки избранного. Так, у Иринея нет Послания Иуды, но введено Первое послание Петра. Не употребляется апокалипсис Петра, но цитируется в качестве священного писания Пастырь Гермы. Тертуллиан не упоминает Второе послание Иоанна, но вводит Послание Иуды. Климент Александрийский, кроме четырех евангелий, цитирует еще евангелие от евреев (в дальнейшем апокрифическое). Он вводит Третье послание Иоанна, Второе Петра, апокалипсис Петра и др. При нем Павловы послания приобретают новозаветную полноту: к ним приписывается 14-е послание — к евреям. Но зато соборные послания, позднее вошедшие в канон, здесь игнорируются.
Ожесточенные споры вокруг этих раннехристианских книг, путаница, возникавшая в связи с тем, что одно и то же произведение одними из отцов церкви признавалось священным, а другими апокрифическим, побудили ввести некоторую классификацию. Так, христианский писатель III в. Ориген делит эти произведения на общепризнанные и спорные. В первую группу он включает 21 название: четыре евангелия, Деяния, 13 посланий Павла, Первое Петра; Первое Иоанна и апокалипсис Иоанна. Ко второй Ориген относит Послание к евреям, Второе послание Петра, Второе и Третье Иоанна, Послание Иуды, Иакова, Варнавы, учение 12 апостолов. Евсевий, писатель IV в., к общепризнанным причисляет 21 произведение, к спорным — 5. Особые затруднения вызывает у него Апокалипсис. Он относит его к разряду общепризнанных церковью книг и, «если угодно» (выражение Евсевия), к категории подложных. На поместном Лаодикийском соборе 363 г., на котором был определен первый официальный список христианских священных книг, возобладало второе мнение. Апокалипсис был выключен, и в Новый завет вошло 26 произведений. И лишь триста с лишним лет спустя, на Трулльском (Константинопольском) соборе 692 г., Апокалипсис был декретирован 27-м произведением Нового завета. Но еще долго вокруг него не утихала борьба, и отзвуки ее до нас доходят и из IX и из XVI вв.
Не без умысла ввели мы читателя в лабиринты истории новозаветного канона. Пестрая мозаика мнений, бесконечные перестановки, противоречивые тенденции, столетиями длящиеся споры между самими отцами церкви — все это неодолимо приводит свободную мысль к вопросу: в каком же отношении священно само Священное писание? В чем превосходство, например, Послания Филимону, вошедшего в канон, над Посланием к лаодикийцам, выброшенным из него? Почему апокалипсис Иоанна признан боговдохновенным произведением, а апокалипсис Петра — нет? Чем объясняется, что учение 12 апостолов, представляющее во всех отношениях большее значение и интерес, чем, например, Третье послание Иоанна, тем не менее, осталось за бортом?
Ответы на эти вопросы кроются в том бесконечно сложном сплетении сугубо земных сил, которые являются и творцами христианства, и созидателями канона. Борьба течений, социальных интересов, религиозно-догматических линий, борьба за епископские кресла и власть в церкви, наконец, неизбежная при таком сплетении сил игра случая — вот что стоит за новозаветным каноном и определяет самое его лицо.
Идея «Жития Иисуса» есть та ловушка, в которой суждено было попасться и погибнуть теологии нашей эпохи. Кто приступал серьезно к биографическому повествованию о Христе, тому приходилось отрешаться от представления церковного Христа.
Л. Штраус
Еще два-три столетия назад такой проблемы (если не принимать во внимание скептицизм единичных мыслителей) не существовало. Нелицеприятный аскет Иоанн и исполнительный архангел Гавриил, жестокий царь Ирод и дух божий, обернувшийся голубем, легионы земных и неземных персонажей, поименованных и безымянных, имеющих самостоятельные роли и играющих роль безмолвных статистов, — все они считались безусловной исторической реальностью. И, разумеется, ни малейшего сомнения не вызывала историческая реальность главного персонажа этих новозаветных повествований — Иисуса Христа, со всеми его соратниками, сподвижниками и всей свитой чудес и иррациональных «деяний».
Развитие критической мысли пробило бреши в хрустальном небосводе безоблачной веры. Критика ставила вопросы, перед которыми распадалась, казалось бы, прочная ткань старых представлений. Тысячелетняя приверженность к чудесам стала заметно ослабевать. Сверхъестественное бралось под подозрение, и вместе с этим постепенно вставали вопросы исторической достоверности других элементов новозаветных рассказов, в том числе и достоверности действующих лиц.
Один из аспектов проблемы новозаветных персонажей — это проблема их историчности. В наиболее простом виде вопрос может быть сформулирован так: действительно ли у истоков христианства стояли те люди, которые упомянуты в Новом завете, или они вымышлены авторами этих произведений? Что у истоков христианства, как и всякого другого религиозного движения, стояли какие-то деятели — экзальтированные, порой терявшие чувство реальности главари и проповедники и легковерная, жаждавшая необычайного толпа, — это едва ли может быть предметом спора. Христианство не опустилось с небес, как метеор. Оно не было принесено в мир в готовом виде. И как общественное движение, и как вероучение оно творилось в определенной социальной среде, на основе определенных социальных и духовных запросов этой среды и, разумеется, реальными людьми. В этом отношении истоки христианского движения вполне уподобляются другим аналогичным движениям эпохи.
Что касается историчности лиц, введенных в новозаветные повествования, то отношение к ним должно быть дифференцированным.
Не приходится сомневаться, что в составе этих произведений имеется множество чисто литературных персонажей. Они произносят речи, совершают определенные действия; и то, и другое вписывается в общую ткань повествования. Но при внимательном рассмотрении нетрудно увидеть, что они — всего лишь плод творчества самого автора или его источника и имеют вполне определенное служебное назначение. Через их посредство выражаются определенные религиозные или этические идеи, тенденции, проводятся практические наставления, наконец, они вносят в повествование элемент занимательности. Именно такую роль играют, например, родители Иоанна Крестителя, литературным родителем которых является сам автор евангелия от Луки. Мать Иоанна Елисавета становится волею Луки родственницей девы Марии; они обмениваются речами, составленными автором из ветхозаветных цитат и фраз. Тут же функционирует архангел Гавриил. Вряд ли литературный характер этих персонажей и ситуаций может у кого-нибудь вызвать сомнение.
Аналогичным образом, по-видимому, надо оценить и историчность неких Анания и Сапфиры — мужа и жены, введенных в Деяния апостолов. Рассказ, в котором они главные действующие лица, постулирует определенный запрет, определенное правило, имевшее отношение к практике раннехристианских общин. Это установление, однако, заключено в форму маленькой занимательной новеллы, где персонажам присвоены имена, а действия, противоречащие указанному правилу, вызывают немедленное возмездие. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это», — заканчивает автор рассказ, раскрывая тем самым его назначение (Деян. 5:11). Таковы же и многие другие новозаветные личности: сирофиникиянка синоптических евангелий, женщины у Иисусова гроба, бесконечная чреда исцеленных, прозревших, освободившихся от нечистых духов — все это в большинстве литературные герои, создающие необходимый антураж для центрального сюжета.
Необходимо при всем этом иметь в виду, что художественный вымысел авторов или их источников не носит характера абстрактной выдумки. Ни один автор, если бы даже он стремился к этому, не может устраниться от влияния своей среды. И творцы новозаветных повествований, преломляя в своих рассказах какие-то обстоятельства, события, воспоминания, в общем, верно передают колорит эпохи, но отражают его во многих случаях в художественных и мифологических образах.
Есть в Новом завете другая группа имен, относительно которой нельзя с уверенностью сказать, историчны они или нет. Например, в первых строках евангелия от Луки упоминается некий Феофил (или Теофил). Это греческое имя в переводе означает боголюб, и автор мог избрать такое имя как символ, как собирательный образ боголюбов вообще, которым адресуется евангелие. Но в посвящении имя Теофила сопровождается эпитетом «державный» (или «знатный»), что предполагает лицо как будто конкретное, историческое, но неизвестное нам. Ряд персонажей Нового завета может быть отнесен к этой неопределенной категории.
Наконец, историчность некоторых имен не вызывает сомнений, поскольку они засвидетельствованы другими источниками. Таковы, например, имена императора Августа и Тиберия, римского ставленника на иудейское царство Ирода, римского наместника Иудеи Понтия Пилата. Они упоминаются не только в Новом завете, но неоднократно приводятся и античными авторами, и в «каменных архивах» древнего мира — декретах, посвятительных надписях и др. Едва ли может вызвать сомнение и историчность некоего менее известного лица, бунтаря Февды, заметка о котором в Деяниях апостолов (5:36) подтверждается свидетельством историка Иосифа Флавия[21].
Аналогичный подход допустим и в отношении некоего иудейского проповедника Иоанна[22], которого в евангелиях называют Крестителем, и некоего Иакова[23], именуемого здесь братом Иисуса (он упоминается также в апокрифическом евангелии Фомы), и некоторых других.
Но если такие имена находят порой подтверждение в исторических источниках, то черты, которыми их наделяют, и деяния, которые им приписывают авторы новозаветных произведений, во многих случаях расходятся с исторической правдой. И это вполне объяснимо: Новый завет — собрание тенденциозных сочинений. Сам отбор именно этих 27 произведений из множества других — яркое тому свидетельство.
Тенденции вероучительные, догматические, социальные непрестанно скрещиваются на страницах Нового завета, часто противореча друг другу, но во всех случаях влияя на характер самих повествований.
В сочинениях античных историков Иосифа Флавия, Филона и Тацита прокуратор Иудеи Понтий Пилат обрисован как коварный и жестокий правитель, чинивший в подвластной ему провинции бесконечные расправы и насилия, нимало не считаясь с мнением и обычаями народа и подавляя всякие проявления мятежности.
В евангельском изображении тот же Понтий Пилат кроток, богобоязнен и даже человеколюбив. Несмотря на то, что противники Иисуса обвиняют последнего в самозванстве (он нарек себя царем иудейским, что равносильно мятежу против Рима), римский прокуратор пытается выгородить его. Трижды вступает он в спор с подвластными ему иудейскими первосвященниками и народом, но вынужден им подчиниться (Лука 23:21-24). Столь же неправдоподобным предстает образ Пилата в евангелии от Матфея. Здесь помимо самого прокуратора вводится новый персонаж — его жена, которая видит вещие сны и ходатайствует перед мужем за праведника. Тем не менее, Иисуса отправляют на казнь, а всесильный языческий прокуратор, прибегая к иудейскому (!) обряду очищения от грехов, умывает руки перед народом и заявляет: «Невиновен я в крови праведника сего» (27:24). На что весь народ охотно отвечает: «Кровь его на нас и на детях наших» (27:25).
Эти строки, звучащие как заклятие, хорошо передают побуждения и тенденции автора и едва ли могли восходить к первохристианам, которые были иудеями и само христианство еще рассматривали как чисто внутреннее и ограниченное только еврейским народом учение. «На путь к язычникам не ходите… а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Матф. 10:5-6) — вот исходный мотив начального христианства, и рядом с ним приведенный выше диалог Пилата и еврейского народа совершенно невозможен. Следовательно, такой диалог мог появиться только позднее, в иной этнической среде и из иных идейных постулатов. Возникшая на определенном этапе тенденция к разрыву с иудео-христианством и отмежеванию от родовых связей новой религии побуждала к созданию соответственных «исторических аргументов». Евангельский «портрет» Понтия Пилата и вложенный в его уста разговор — яркие образцы такого творчества.
Проблема новозаветных персонажей имеет ряд аспектов. Но наибольшую известность и остроту приобрел вопрос об историчности Иисуса. Чрезмерно выпяченный из общего ряда вопросов, необоснованно возведенный в ранг центральной проблемы, он сделался сюжетом бесконечных работ и брошюр. К сожалению, многие из них способствовали созданию известной методологической путаницы. Вопрос был поставлен альтернативно — «либо-либо». При этом одну точку зрения — гипотезу «чистого мифа» — некоторые стали оценивать как марксистское понимание процессов формирования христианства, а другая гипотеза — «исторического зерна» — отвергалась как несоответствующая такому пониманию.
Нетрудно заметить, что положение это лишено сколько-нибудь серьезных теоретических оснований, поскольку для марксизма причиной появления христианства в равной мере не являются ни конкретная историческая личность (как бы она ни именовалась), ни эфемерный мистический персонаж. С другой стороны, у истоков христианства, несомненно, стояли исторические личности, и их деяния и побуждения оказываются отражением тех социальных и идейных процессов, которые в конечном счете и являются причиной формирования новой религии. Следовательно, наличие или отсутствие исторической подоплеки в евангельских сказаниях о Христе не имеет для марксистской методологии принципиального значения и в этом отношении в равной мере приемлемо. Вот почему внимательное рассмотрение материалов побуждает ставить вопрос об изучении соотношения исторического и мифического в формировании образа евангельского Христа, а не противопоставлять одно другому.
Почти на всем протяжении существования христианства правящие церкви освящали учение, по которому Иисус Христос выступал как ипостась триединого, бывшего «прежде всех веков» бога, мистическое триединство которого объявлялось лежащим по «ту», недоступную человеческому пониманию сторону. По христианскому символу веры, этот бог, обернувшись Словом (Логос), вошел в лоно еврейской женщины — девы Марии, родившей того же бога, но уже в человеческом обличье. Возросши, он проповедал людям новое учение — христианство, за что и был казнен по предначертанию опять-таки триединого бога (т. е. в сущности по своему собственному). Эта центральная канва осложнена и изукрашена множеством сказаний о чудесах, исцелениях, воскрешениях, которые должны были придать главному персонажу приличествующие его рангу величие и значение.
Тщетно было бы в этом устоявшемся символе веры, исполненном мистики и алогизмов, усматривать черты исторической достоверности. Но даже здесь, в этой неоднократно отрабатывавшейся церковью версии, было бы неправомерно сводить дело к голой и преднамеренной выдумке в обывательском смысле слова. В символе веры, в туманных мечтаниях о потустороннем царстве блаженных, в сказочных очертаниях самого Христа отобразились и переплелись многообразные и часто противоречивые религиозно-философские, этические и другие черты времени. Следовательно, даже этот клубок, если взглянуть на него глазами историка, несмотря на все его пороки и мифичность, как-то вводит нас в круг проблем и в круг людей общества, созидавшего христианство.
Но, как известно, символ христианской веры — явление сравнительно позднее. Оно венчает здание христианской догматики, а не начинает его. Оно как бы подводит черту под длительным процессом формирования самой новозаветной литературы, фиксируя конечные идейно-догматические результаты этого процесса. Следовательно, мистический «сияющий образ» евангельского Христа так, как он представлен господствующей церковью, — конечный продукт христианского творчества, а не начальный. И перед историком возникает задача отыскания истоков этого новозаветного образа.
Одной из величайших заслуг научной критики нового времени явилось указание на неоднослойность евангелий и других новозаветных произведений. Их утвержденная церковью изначальность и единство вызывали обоснованное сомнение. Почти в каждом произведении обнаруживались разнородные древнейшие источники и пласты. Евангельские противоречия, замеченные еще в первые века христианства, но объявленные церковью мнимыми, таковыми не оказывались. Они органически вытекали из разнородности источников, легших в основу позднейших редакций, из развития самого христианского вероучения, его догматики, социальных идеалов, локальных особенностей и т. п. В этом ряду заметное место принадлежит и оценке образа евангельского Христа. Под скальпелем научного анализа он неотвратимо распадался на составлявшие его элементы.
Первыми были отсечены чудеса. Все эти многочисленные изгнания бесов, исцеления расслабленных, воскрешения умерших, укрощения ветра и тому подобные сверхъестественные деяния, которыми евангелисты так обильно расцветили проповедническую деятельность Христа, были довольно единодушно (хотя и не по одинаковым мотивам) признаны недостоверными. Одни исследователи становились на путь простого и порой довольно плоского рационализма. Другие, сравнивая евангельские чудеса с аналогичными сказаниями и мифами древнего мира, указали на сюжетную близость и отсутствие принципиальных отличий. Чудеса были необходимым аксессуаром и легендарных персонажей, и исторических личностей этого времени.
Дальнейший анализ справедливо привел к исключению и родословий Христа как искусственной, произвольной и позднейшей конструкции, совершенно различной у двух евангелистов (Матфея и Луки) и полностью отсутствующей у третьего, древнейшего (Марка).
Подверглись анализу и так называемые речения Христа — Логии. Находка в Оксиринхе (Египет) папирусных фрагментов древнейших списков Логий и другие материалы способствовали более углубленному изучению вопроса. Все же в настоящее время его едва ли можно считать решенным. Тем не менее, исследователи в отношении подавляющего большинства речений единодушны: они должны быть отсечены от этого евангельского персонажа. Двигаясь в таком направлении, научная критика снимала с канонизированного образа евангельского Христа, как с луковицы, пласт за пластом.
Здесь едва ли возможно проследить этот процесс. Но самую тенденцию нельзя упускать из виду. В ходе ее развития образ Христа утрачивал многие черты, приписанные ему евангелистами. Освобождаемый от позднейших напластований, догматических тенденций, мифов, он все более ускользал, что дало повод известному исследователю Д. Штраусу, несколько сгущая краски, заметить, что «после того, как мы удалили массу разного рода мифических побегов, окутавших весь ствол, мы видим, что то, что мы до сих пор считали ветвями, листвой, окраской и формой самого дерева, то в большинстве случаев были именно эти побеги. И вместо того, чтобы по удалении их перед нами явилось само дерево в его истинном виде, мы констатируем скорее, что эти паразиты уничтожили его собственные листья, высосали его соки, изуродовали его ветви и сучья, и что первоначальная форма вообще уже больше не существует. Всякая мифическая черта, привходившая в образ Иисуса, не только заслоняла собой историческую так, чтобы по устранении первой снова выступала на вид вторая, но и многие исторические черты окончательно поглощены были и затерялись под налагавшимися на них мифическими наслоениями»[24].
Процесс критического препарирования источников, чрезвычайно плодотворный на определенном этапе, на этом не остановился. Острота борьбы с претензиями консервативного богословия, а также увлечение некоторыми крайними направлениями мифологического метода побудили ряд авторов пойти еще дальше и, если воспользоваться приводившейся выше метафорой, признать всю луковицу евангельских сказаний сплошь состоящей из послойных мифических и догматических наростов и совершенно лишенной сердцевины.
Нельзя не отметить (в плане истории вопроса) то существенное и даже основополагающее влияние, которое оказали на обоснование концепции чистого мифа определенные общефилософские воззрения некоторых видных представителей мифологической школы. Ограничимся только двумя короткими примерами.
Артур Древс — один из самых активных и популярных мифологов XX в. — по своим философским воззрениям стоял на позициях несколько подновленного пантеизма. Он исходил из того, что сущность христианства составляет комплекс извечных, абстрактных, свободно разлитых в мире религиозных идей, не нуждающихся для своего выражения ни в каких исторических атрибутах и персонажах. Эта вполне идеалистическая концепция побуждает его требовать от историков возврата к «чистой» идее христианства, «к идее богочеловечества, свободного от всякого исторического одеяния». Он усматривает «истинность христианского учения о спасении в смысле религии, как самосознания бога в монистическом (пантеистическом) понимании мирового процесса, который одновременно является и божественным процессом спасения»[25]. «Иисус Христос, — пишет он, — может быть великим, достойным поклонения, как религиозная идея, как символическое олицетворение сущности бога и человека, от веры в которого зависит возможность спасения»[26]. Упрекая представителей «чисто исторического» христианства за близорукое непонимание опасности, которую таит для современного религиозного чувства сохранение обветшалых исторических персонажей, он ставит перед ними альтернативу: «либо спокойно взирать, как день за днем все более мощно вздымающиеся волны натуралистического потока[27] смывают последние остатки религиозного мышления, либо все-таки спасти этот гаснущий огонь на почве пантеизма в религии, независимой ни от какой церковной опеки»[28]. И когда в свете этих общих положений мы находим в сочинениях Древса отовсюду собранные аргументы лишь одного плана, мы не можем не понимать, что этот подбор обусловлен самими общефилософскими воззрениями автора.
Не менее яркий пример такого рода являет собой Бруно Бауэр. В ходе углубленного текстуально-лингвистического и исторического анализов новозаветных произведений он сделал ряд ценных и существенных открытий. Однако его эклектический, по выражению Плеханова, идеализм оказал непосредственное влияние на ряд других его Выводов. Так, рассматривая христианскую религию лишь как временный этап, один из многих в развитии всеобщего самосознания, он лишал ее ореола абсолютной и непреходящей духовной ценности. Это приводило его к атеистическим выводам, поскольку выдвигало вопрос о преодолении христианства как пройденной ступени. Однако идеалистическое общефилософское противоположение мира представлений (или самосознания) действительному, субстанциональному миру, вознесение первого над вторым наложило печать на его выводы и в сфере частного конкретно-исторического исследования. Изучая новозаветную литературу, Бауэр сделал заключение, что «святые скульпторы» — евангелисты брали материал для своего творения не из «химерической» (по его оценке) субстанции Штрауса — преданий, традиций, действительного мира, а «из своей собственной внутренней глубины», из всеобщего самосознания. Тем самым Бауэр вырыл пропасть между первым и вторым, превратив пресловутое самосознание авторов евангелий в чистую абстракцию. В свете изложенного нетрудно заметить, что отрицание исторической подоплеки в образе евангельского Христа и отнесение всего, что о нем говорится, исключительно к миру самосознания уже заранее диктуется философскими позициями Бауэра. «На вопрос, так много занимавший наше время, — писал Бауэр в своей «Критике евангельской истории синоптиков и Иоанна», — кто сей человек, является ли Иисус историческим Христом, мы ответили так, что показали, что все, являвшееся до сих пор Христом, все, что о нем говорится, принадлежит миру представлений (или самосознания. — М. К.) и, следовательно, не имеет ничего общего с человеком, принадлежащим действительному миру. Мы ответили на вопрос так, чтобы навсегда его вычеркнуть»[29].
Таковы некоторые теоретические посылки, стоявшие у истоков гипотезы чистого мифа, и полностью упускать это из виду при обсуждении данного вопроса едва ли правомерно. Необходимо также учесть, что некоторые сторонники такого направления распространили эту гипотезу и на другие новозаветные персонажи и в крайнем своем выражении отвергли все новозаветные имена, признавая их либо фальсификацией, либо мифом. В сочинениях этого крайнего направления (А. Древс, А. Немоевский и др.) истоки христианства, лишенные, таким образом, всяких исторически фиксируемых персонажей, оказывались как бы в мистическом царстве бесплотных теней, отбрасываемых «голым вымыслом», «всеобщим самосознанием» или «извечной идеей» пантеизма.
В популярных лекциях и брошюрах на тему о Христе порой замечается некоторая терминологическая нечеткость. Определяя свое отношение к его историчности, авторы не всегда четко формулируют, что они имеют в виду под наименованием «Иисус Христос». Между тем внесение необходимой ясности имеет важное значение. О каком Христе идет речь? О том ли мистическом персонаже, который, по евангельским мифам, ходил по воде, как по суше, накормил пятью хлебами пять тысяч человек и имел в своем послужном списке множество других подобных деяний? Разумеется, такого Иисуса Христа никогда не существовало. Он — результат религиозных «туманных образований» в мозгу людей. Он — плод религиозного мифотворчества, и его образ создавался фантазией в ходе борьбы различных религиозных течений, философских школ и разных направлений общественной мысли. Процесс формирования этого мифического Христа в недрах «матери-церкви» растянулся на столетия, и «пререкания» (по выразительному определению одного современного богослова) относительно «естества» Христа продолжались долго. Они не вполне закончились и ныне.
Таким образом, тот лик бога Христа, который образует символ христианской веры, представляет собой пестрый клубок мифов, сказаний, легенд. Но на что, выражаясь образно, намотан этот клубок? Есть ли в центре его некая сердцевина, некое реальное зерно, вокруг которого и стали собираться разнообразные легенды и сказания?
Ответ на этот вопрос зависит от оценки немногочисленных и довольно скудных свидетельств, содержащихся в христианских и нехристианских сочинениях.
Совершенно очевидно, что жизнеописание Иисуса на этих фрагментах построить невозможно, и все попытки такого рода, предпринимавшиеся на протяжении столетий, оказывались несостоятельными. И сочинение «простого» немецкого супернатуралиста Гесса, опубликовавшего свое «Житие Иисуса» в 1768 г., и «Жизнь Иисуса» изощренного и тонкого Ренана, вышедшая сто лет спустя, в этом отношении могут быть поставлены на одну доску. Но для рассмотрения вопроса о возможности признания или отрицания самого исторического зерна в сказаниях о Христе, когда речь идет только о том, «чистый» ли это миф или в недрах его все-таки можно рассмотреть некую основу, некоего земного проповедника, на образ которого наслоились последующие религиозно-мифологические представления, — при такой постановке вопроса эти разрозненные крупицы могут занять место в ряду других.
Среди части исследователей, державшихся гиперкритических взглядов на эту проблему, все фрагменты исторических свидетельств, которыми мы располагаем, были сочтены за интерполяции (позднейшие вставки в авторский текст), сделанные христианскими переписчиками.
Однако, как показало время, проблема интерполяций — деликатная проблема. Она требует крайней осторожности и очень выверенных суждений, поскольку иногда тирания устоявшихся представлений накладывает на такие оценки свою печать. Ограничимся лишь двумя в известной степени противоположными примерами.
В одном из сочинений еврейского писателя I в. н. э. Иосифа Флавия есть небольшой абзац об Иисусе: «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к распятию на кресте. Но те, кто раньше любил его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как об этом и о многих других его чудесных делах предсказали боговдохновенные пророки. И до нынешнего дня существует еще секта христиан, которые от него получили свое имя»[30].
Характер этих апологетических тирад не оставляет сомнения в том, что данный отрывок — позднейшая вставка, сделанная христианским переписчиком. Самому еврейскому автору приписать такой взгляд на Иисуса невозможно уже потому, что он не только не был христианином, но в бытность свою в Иудее примкнул к фарисеям, которых евангелия, как известно, рекомендуют как самых закоренелых противников Иисуса. Таким образом, в отношении этого абзаца мнения довольно единодушны. Через две главы в том же сочинении имеется отрывок, в котором упоминается брат Иисуса. Там рассказывается о жестоком первосвященнике Анане, который «собрал синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как и несколько других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями»[31]. Считать это место тоже интерполяцией нет никаких фактических оснований, что не отрицается и сторонниками «чистого» мифа. Тем не менее, исследователи этого направления отбрасывают отрывок об Иакове по логическим основаниям: если признается недостоверным приведенный выше абзац об Иисусе, то логика такого признания как будто вынуждает отбросить в этом сочинении и другие упоминания Иисуса.
Между тем христианский писатель Ориген, читая в первой половине III в. сочинение Иосифа Флавия, находил там упоминание Иисуса, но не в той апологетической редакции, которую мы приводили выше. В этой связи не может не привлечь своей несообразностью последняя фраза отрывка из XVIII книги Флавия. Там говорится, что «до нынешнего дня существует еще секта христиан». О каком «нынешнем дне», о каком времени идет там речь? Интерполяция, как это установлено, возникла в начале IV в. Но едва ли можно предположить, чтобы в это время, когда христианство уже пронизало все поры государственной и общественной жизни римского общества, когда сложились мощные церкви и сама императорская власть вступала с ними в различные контакты — одним словом, когда христианство стало известно всему античному миру, некто стал бы давать такую странную справку: «секта, существующая до сего дня». Такое разъяснение могло быть уместно для начальной поры, когда христианство еще было почти неведомо античному миру.
Такого рода соображения и побудили некоторых исследователей предположить, что там, где сейчас в сочинении Иосифа Флавия находится христианская интерполяция, прежде была другая, подлинная запись, переделанная впоследствии неизвестным переписчиком. Но, переделывая, он, по-видимому, оставил какие-то обрывки прежнего текста и, в частности, пресловутую последнюю фразу.
Другой пример относится к римскому историку Тациту. Описывая грандиозный пожар в Риме в 64 г. н. э., Тацит сообщает, что император Нерон, чтобы пресечь слухи о своей причастности к поджогу, «подставил виновных и применил самые изысканные наказания к ненавистным за их мерзости людям, которых чернь называла христианами. Виновник этого имени, Христос, был в правление Тиберия казнен прокуратором Понтием Пилатом, и подавленное на первое время пагубное суеверие вырвалось снова наружу и распространилось не только по Иудее, где это зло получило начало, но и по Риму, куда стекаются со всех сторон и где совершаются все гнусности и бесстыдства. Таким образом, сначала были схвачены те, которые признавались, а затем по их указанию огромное множество других, которые были уличены не столько в поджоге, сколько в ненависти к роду человеческому»[32].
Этот отрывок в целом трудно взять под подозрение. Пожар в Риме, Нерон, его террористическая деятельность — все это исторически достоверно. Еще более трудно увидеть в нем (или в той его части, где упоминается Христос) вставку благочестивого христианина. Эпитеты, которыми здесь наделено нарождающееся христианство — пагубное суеверие, мерзость, человеконенавистничество, — исключают такое предположение.
Тем не менее, сторонники интерполяций выражают и этому отрывку свой вотум недоверия. Подозрению подвергалось само местоположение отрывка, поскольку Тациту как будто логичнее было бы поместить его там, где говорится о правлении императора Тиберия, ибо при нем зародилось христианство. Однако, не говоря уже о неправомерности навязывания древнему автору логики современного критика, логика тацитовского местоположения отрывка вполне очевидна: автор упоминает о христианах лишь в связи с настойчивыми слухами о поджоге Рима императором Нероном.
Сторонники интерполяции указывали также, что выражение «огромное множество» по отношению к христианам не может соответствовать действительному положению вещей при Нероне. Следует, однако, иметь в виду, что выражение это скорее образное, чем численное. Оно, кроме того, в данном контексте могло οтноситься не к числу христиан, а к числу схваченных по подозрению в поджоге, не обязательно христиан, тем более что в условиях нероновского террора едва ли велась такая тщательная отфильтровка.
Недавно был выдвинут новый аргумент в связи с одной находкой. В 1961 г. во время археологических раскопок в Кесарии Иудейской был найден обломок латинской надписи с именем Понтия Пилата. В этой надписи он называется префектом, в то время как Тацит именует его прокуратором. Кроме того, приводя его титул, Тацит несколько отступает от формулы, которая встречается в некоторых эпиграфических памятниках. Из этого делается вывод, что сам Тацит едва ли мог бы допустить такие неточности и что, следовательно, это дает основание говорить «о позднейшей интерполяции всего относящегося к Иисусу Христу пассажа»[33].
Однако если обратиться к историко-литературным данным (с которыми единственно и следует сравнивать повествование Тацита), то здесь как раз мы и не находим строгого единообразия. Иосиф Флавий прилагает к имени Понтия Пилата греческие термины, которые соответствуют латинским и прокуратору и префекту. Нет никаких оснований также утверждать, что Понтий Пилат имел только титул префекта и не носил в то или иное время титул прокуратора. Кроме того, сам повод слишком мал, чтобы на его основании делать столь далеко, идущий вывод об интерполяции всего отрывка.
В этой связи приходится подчеркнуть удивительную в ряде случаев противоположность исходных аргументов, которыми пользуются для доказательства недостоверности упомянутого отрывка. Если в данном случае автор строит свою гипотезу на том, что Тацит не мог бы упустить ни одной частности, касающейся титулатуры Понтия Пилата, то другой автор ту же гипотезу интерполяции строит на диаметрально противоположном утверждении, что Тацит вообще едва ли мог знать само имя столь незначительного исторического персонажа, а тем более не стал бы упоминать его[34].
Рассмотренные здесь два примера убедительно показывают, что излишняя подозрительность к рассматриваемым источникам столь же уводит от истины, как и недостаточно критическое отношение к ним. Истина в данном случае не в крайних концепциях.
Таким образом, крупицы весьма односложных свидетельств об Иисусе и его брате Иакове у Тацита и Иосифа Флавия, столь же односложные показания, которые можно извлечь из Светония и переписки Плиния, воспоминания об этом персонаже у Цельса, перекликающиеся в свою очередь со сходными преданиями в Талмуде, — все это должно быть как-то принято во внимание при рассмотрении вопроса об историческом зерне евангельского мифа.
В свете данных материалов тезис мифологической школы о «молчании века» — молчании античных писателей первого века христианства о Христе — представляется малообоснованным. В данном случае скудость и немногочисленность сведений отражают подлинную историческую перспективу: истоки христианства и исторические персонажи, стоящие во главе его, оказываются для современного им античного мира явлением ничтожным и, в общем, почти незамеченным. В тех же случаях, когда античный автор, будь то Плиний, Тацит или Светоний, в какой-нибудь связи уделяет им несколько строк, он неизменно аттестует это движение как «безмерно уродливое суеверие».
Даже для Иудеи, страны, где зародилось христианство, самое начало этого движения — явление, по-видимому, вполне заурядное, особенно если вспомнить бесконечную чреду проповедников, чудотворцев, пророков, бунтарей, исполненных мессианских чаяний и религиозного фанатизма, которые проходят перед нами в исторических повествованиях Тацита и Иосифа Флавия. И если историческую перспективу метаморфоз этого главного евангельского персонажа выразить метафорически, можно сказать: Христос стал Христосом спустя немало времени после смерти Христа. То историческое зерно, тот земной проповедник, вокруг личности которого впоследствии наслаивались сказания и учения формировавшегося христианства, едва ли мог в исторической реальности значительно возвышаться над своими приверженцами, над своим веком, над тем миром, в котором рос и пребывал. Духовной основой этого мира являлся ригоризм ветхозаветных установлений, иудаистские мессианские чаяния, некоторые этико-социальные утопии и некоторые оппозиционные официальному иудаизму течения. И лишь последующее развитие христианства и превращение его в ведущую силу античного общества могло придать возможно существовавшему и едва замеченному в свое время земному персонажу неземные черты мистического небожителя. В новозаветных произведениях, формировавшихся в общем при втором-третьем поколениях христиан, удержались отдельные элементы, по-видимому, довольно ранних преданий и воспоминаний, идущих вразрез с догматической и вероучительной линией более позднего этапа и не способствующих возвеличению евангельских персонажей. Например, в евангелии Матфея (28:13-15) удержалась нить враждебного христианству предания о том, что ученики казненного Иисуса ночью выкрали его тело, чтобы создать у приверженцев иллюзию воскресения своего учителя. Трудно представить себе, что такая версия, появившаяся, конечно, в ходе живой борьбы между сторонниками и противниками первоначального движения, могла возникнуть по поводу чистого мифа, а не реального человека.
Трудно истолковать с каких-либо мифологических позиций, представляющих Иисуса изначальным богом, фразу, вложенную Марком (10:18) в его уста: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один бог». Сюда же следует отнести и версию о братьях, сестрах, соседях Иисуса (13:55-58), житейские опасения по поводу его ненормальности и некоторые другие. Все это невозможно объяснить с точки зрения мифа.
Одним из существенных аргументов мифологической школы является разработанная ею схема развития образа Христа в новозаветной литературе. Ее основная идея заключается в утверждении, что формирование христианского вероучения шло от бога к человеку. Исторически дело представляется таким образом, что в более ранних новозаветных произведениях в образе Христа нет «ни одной» человеческой черты. Он — сын божий, мессия, агнец. Таким он представлен в Апокалипсисе. В дальнейшем абстрактный Христос обрастает некоторыми земными аксессуарами. Он бог, но рождение через земную женщину приближает его к земле: он становится богочеловеком. Таким он представляется авторам этой гипотезы в четырех ранних Посланиях Павла.
В последующих новозаветных произведениях он еще более обмирщается. Появляется его земная биография, создающая видимость конкретности, хотя она сплошь мифична. Этот этап представлен синоптическими евангелиями. И, наконец, в Деяниях апостолов формула «от бога к человеку» находит свое завершение.
Множество сомнений возникает при рассмотрении этой гипотезы. Тут и несоответствие конкретного содержания каждой из названных групп произведений тому схематически расчлененному образу, который, согласно этой конструкции, должен ей соответствовать. Вызывает сомнения идея преднамеренной конкретизации биографии Христа у синоптиков. Возникает вопрос о том, как быть в свете этой схемы с другими новозаветными произведениями, например с евангелием Иоанна, которое, являясь более поздним, чем синоптические евангелия, оказывается, однако, в противоречии со схемой менее «земным».
Но главный вопрос заключается в самом принципе подхода. Известно, что вопросы абсолютной датировки новозаветных произведений и — в еще большей степени — их относительной хронологии далеко не решены. Выдвинутые гипотезы достаточно многочисленны и противоречивы. Нелегко отдать предпочтение какой-либо из них. И приведенная выше относительная хронология четырех групп новозаветных произведений, которой держатся сторонники мифологической школы, обладает достоинствами и изъянами многих других таких построений, выдвигающих, однако, другую последовательность. Кроме того, не исключено, что эти произведения вообще не вытянуты в столь последовательную хронологическую цепь. Не исключено также, что многие из них синхронны или близки по времени, но создавались в связи с различными конкретными обстоятельствами и запросами разных общин. Можно ли на такой довольно зыбкой основе утверждать, что формирование христианства шло только по нисходящей от бога к человеку, а не как-нибудь иначе?[35]
Рассмотренные примеры свидетельствуют о необходимости всестороннего изучения этих вопросов. Встречающиеся порой утверждения, что гипотеза чистого мифа является единственно марксистским подходом и что тем самым вопрос этот решен окончательно, лишены серьезных оснований. Как выше было показано, для марксистской методологии наличие или отсутствие исторической подоплеки в евангельских мифах о Христе не имеет принципиального значения и в равной мере допустимо. Отсюда вытекает необходимость объективной оценки материалов, легших в основу обеих гипотез.
Мифологическая школа внесла большой вклад в изучение новозаветной литературы. Ее метод позволил вскрыть идейные корни многих евангельских сказаний, объяснить природу ряда противоречий, выявить истоки многих представлений раннего христианства.
Наряду с этим нельзя не заметить, что на определенном этапе развития идей этой школы наступает застой. Направление как бы исчерпало себя. Оно перебрало со своих позиций весь известный сравнительный материал, сделало все возможные и надежные выводы и даже вышло за пределы научной надежности в лице крайних представителей этого направления. Школа переживала известный кризис, и весьма показательно, что за последние десятилетия это направление не выдвинуло ни новых значительных работ, ни сколько-нибудь заметных имен.
С другой стороны, великие археологические открытия последних десятилетий не могли не привлечь к себе внимания одной важной закономерностью — новыми подтверждениями известной цепкости исторического предания. Как это уже однажды было в истории науки при открытии археологами крито-микенской цивилизации, мифы, легендарные сказания и историческая традиция в ряде случаев снова оказываются совсем не пустым орешком. Открытие археологом Вулли исторической подоплеки библейского мифа о потопе, шумерские истоки других библейских сказаний, достоверность ряда топографических и ономастических[36] свидетельств, открытия в пещерах Иудеи памятников эпохи Бар-Кохбы, раскопки крепости Масады и многие другие побуждают с достаточной серьезностью относиться к данным исторической традиции.
В последние годы в этом направлении наблюдается определенный сдвиг. Это отмечено, в частности в ГДР, в юбилейной статье, посвященной Д. Штраусу[37]. Итальянский ученый-марксист Амброджо Донини в книге, вышедшей в Италии в 1960 г., также писал, что «передовые течения исторической науки, сознающие опасность тех направлений, которые не принимают во внимание историко-социального процесса образования христианских преданий, чувствуют необходимость переоценки понятий мифичности»[38].
Английский исследователь-марксист А. Робертсон, пришедший к необходимости допустить возможность исторического зерна в евангельских сказаниях о Христе, писал в 1959 г. следующее: «Историк обязан объяснить все факты. Если теория мифов в состоянии объяснить девять фактов из десяти, но имеется еще десятый факт, который эта теория не объясняет, то десятый факт необходимо объяснить как-то иначе»[39].
Недавно закончилась дискуссия по вопросу об историчности Христа, проводившаяся еженедельником английского Общества свободомыслящих. Среди различных взглядов, высказанных по этому вопросу и повторяющих в общем уже известную аргументацию как той, так и другой стороны, привлекает внимание позиция автора заключительной статьи Ридли. Он скептически относится к идее историчности Христа (в которую он, впрочем, вкладывает нечто гораздо большее, чем это представляется сторонникам гипотезы исторического зерна) и оставляет решение вопроса до находок прямых свидетельств. Тем не менее, и он допускает существование исторического прототипа Христа, как он думает, вождя «мессианского восстания», распятого на кресте Пилатом. Ибо иначе, замечает он, с какой стати церковь, стремившаяся утвердиться среди язычников, стала бы выдумывать эти скандальные для себя истории?[40]
Мы привели некоторые соображения мифологической школы и те возражения, которые могут быть против них выдвинуты. Обе точки зрения — и та, которая в мифе о Христе усматривает некую историческую подоплеку, и та, которая полностью ее отрицает, — являются лишь гипотезами. Каждая из них располагает своим арсеналом аргументов и контраргументов. За каждой стоят видные в истории науки личности. В частности, среди сторонников гипотезы чистого мифа имеются известные советские ученые — Р. Ю. Виппер, А. Б. Ранович, С. И. Ковалев и др.
Все это делает совершенно очевидной насущную необходимость дальнейшей разработки данных вопросов, новой проверки старых аргументов и выдвижения на основе серьезного и современного изучения всей совокупности источников новых. Становится также очевидной и необходимость более углубленного подхода к самой постановке вопроса об историчности и мифичности, поскольку изучаемое явление сложнее и многограннее «лобовой» альтернативы — «либо миф, либо история». Изучение соотношения исторического и мифического в формировании образа евангельского Христа представляется направлением более перспективным, чем старое противопоставление одного другому.
Непрекращающиеся в последние десятилетия археологические открытия, столь углубившие наши знания в различных сферах древней истории, вселяют уверенность, что и этот вопрос в конечном счете будет решен.
Но как бы ни решался этот частный вопрос, каких бы ни держаться гипотез, они не могут изменить нашего отношения к церковной идее умершего, воскресшего и вознесшегося бога. Тот мистический образ евангельского Христа, единого и тройственного, «предвечного» бога, умеющего колдовски перевоплощаться в Слово, в дух, в человека, проклятием своим губящего смоковницу и прикосновением возвращающего к жизни мертвого, — этот образ не более как фантазия. Фантазия эта в целом не блистает и самобытностью. Мифотворчество многих народов Древнего мира породило сходные сказания. И там, как и в христианстве, они были порождены иллюзорными представлениями о жизни и смерти. Они выражали извечные чаяния бессмертия, присущие людям, и питались наивными представлениями древности о природе самого человека.
Мистический образ евангельского Христа покоится на этом же основании. Сотканный из иллюзорных чаяний первохристиан, укореняемый церковью в сознании последующих поколений, он, разумеется, не имеет никакого реального бытия. Он — плод религиозного мифотворчества.
[1] «Журнал Московской патриархии», 1960, № 9, стр. 42.
[2] «Богословские труды», сборник первый, 1960, стр. 55-56.
[3] «О мнимых противоречиях и неточностях в Новом завете». — Рукописный архив Музея истории религии и атеизма, К о/п № 197, стр. 1.
[4] В. Вреде. Происхождение книг Нового завета, изд. 2, М., 1925, стр. 8-9.
[5] Пятикнижие включает в себя следующие произведения: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.
[6] Ю. Велльгаузен. Введение в историю Израиля. СПб., 1909, стр. 7.
[7] В русском синодальном издании первая и вторая книги Самуила называются первой и второй книгами Царств. А первая и вторая книги Царей еврейской Библии соответствуют третьей и четвертой книгам Царств.
[8] В русском синодальном издании — Паралипоменон.
[9] И. Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря. М., 1960; С. И. Ковалев, М. М. Кубланов. Находки в Иудейской пустыне. Изд. 2.., 1964
[10] И. Д. Амусин. К определению идеологической принадлежности кумранской общины. — «Вестник древней истории», 1961, № 1, стр. 10.
[11] Евсевий. Церковная история III, 39, I.
[12] Евсевий. Церковная история III, 39, I.
[13] Евсевий. Церковная история, III, 39.
[14] Евсевий. Церковная история, III, 39.
[15] Евсевий. Церковная история, III, 4.
[16] Евсевий Церковная история I
[17] В русском синодальном издании Библии это место в евангелии Луки «исправлено» по Матфею, что, разумеется, не имеет никаких оснований.
[18] Стадий — мера длины в древней Греции. Была различной, разных областей (177, 192, 210 м).
[19] Евсевий. Церковная история, VII, 25.
[20] Евсевий. Церковная история, IV, 14.
[21] Иосиф Флавий. Древности, XX, 5, 1.
[22] Иосиф Флавий. Древности, XVIII, 5, 2.
[23] Иосиф Флавий. Древности, XX, 9, 1.
[24] Д. Штраус. Мифологическая история Иисуса. Перев. с 18-го нем. изд. СПб., 1907, стр. 340.
[25] А. Древс. Отрицание историчности Иисуса. М., 1930, стр. 96.
[26] А. Древс. Миф о Христе, т. I. M., 1900, стр. 30
[27] Древс имеет в виду материалистический поток.
[28] A. Drew s. Die Christumsmytlie. Jena, 1910, S. 238
[29] Цит. по кн.: Бруно Бауэр. Трубный глас Страшного суда над Гегелем. М., 1933, стр. 25.
[30] Иосиф Φлавий. Древности, XVIII, 3, 3.
[31] Иосиф Флавий Древности, XX, 9, 1.
[32] Тацит. Анналы, XV, 44.
[33] Л. А. Ельницкий. Кесарийская надпись Понтия Пилата и ее историческое значение. — «Вестник древней истории», 1965. № 3 стр. 145.
[34] Ю. Виппер. Рим и раннее христианство М., 1954, стр. 170-177.
[35] Подробное изложение основных аргументов гипотезы мифа и возможные контраргументы приведены в кн.: М. М. Кубланов. Иисус Христос — бог, человек, миф? М., 1964 (гл. 6 — «Евангельский Христос и исторические свидетельства» и гл. 7 — «Вопрос об историчности Иисуса. Пределы спорного»).
[36] Ономастика — раздел языкознания, изучающий имена.
[37] «Das Altertum». Berlin, 1962, Ν 3, S. 185.
[38] Донини. Люди, идолы, боги. М., 1962, стр. 267.
[39] А. Робертсон. Происхождение христианства. М., 1959, стр. 292.
[40] «The Freethinker», 1965, vol. LXXXV, Ν 39, p. 305-306.
